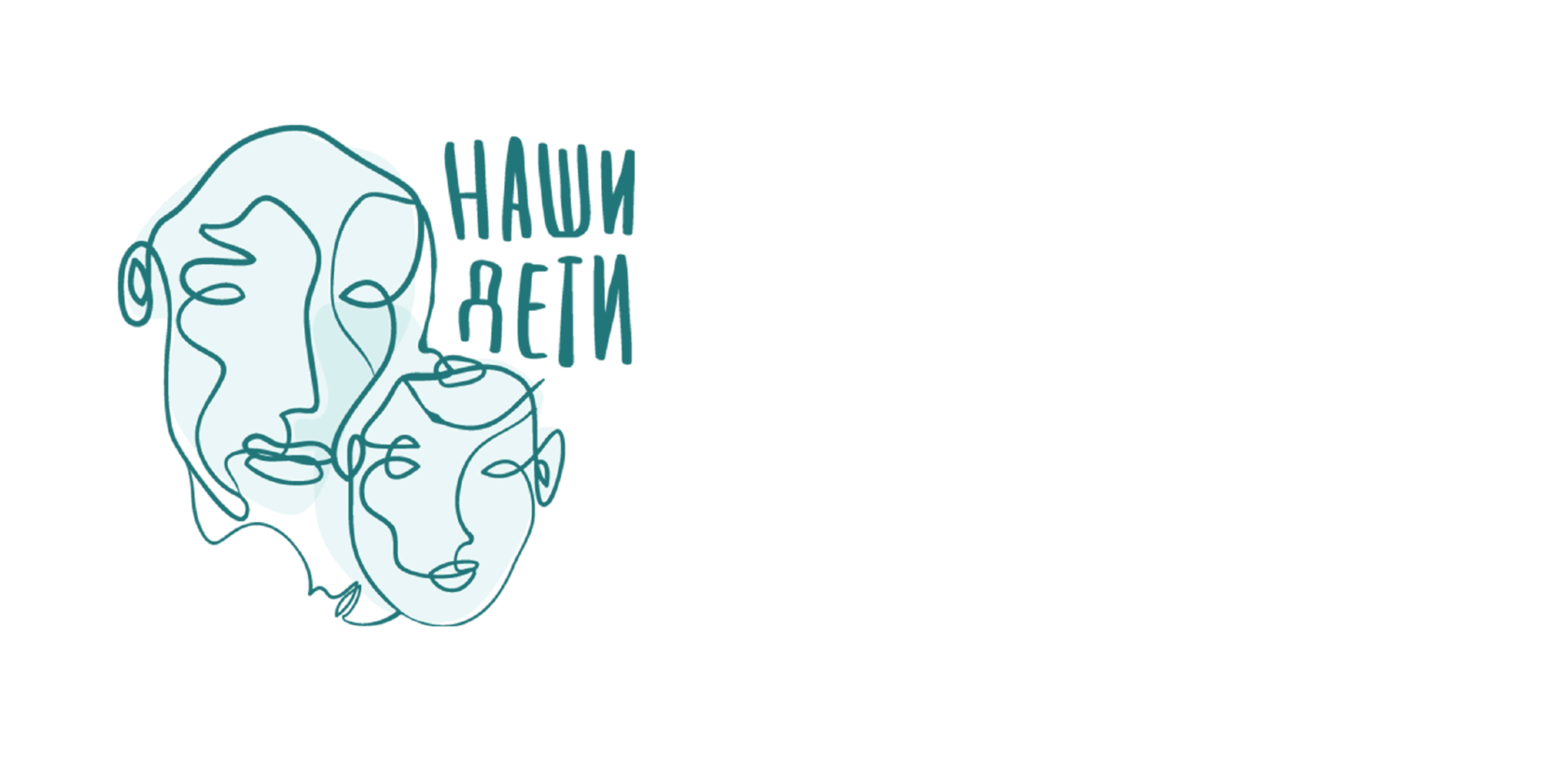Автор книги О том, что есть в Греции
Баба Нюра была родом из деревеньки, настолько мелкой и незначительной, что до нее даже нельзя было доехать. 10 км пешком. Как говорят вологодские: «в этом святом месте нет дороги».
Чащоба, грязь, нищета. Зимой, в морозы, бабы согревались, писая себе на руки, – лес кругом, а дрова почему-то все равно приходилось экономить. Она выбралась оттуда чудом – паспорта деревенским на руки не давали — завербовалась и уехала на север. Когда освоилась, вызволила из деревни трех своих племянниц – Анну, Марию (ставшую потом моей бабушкой) и младшую, Нину. Сначала устроила Анну – она уехала в Москву за мужем, потом моя бабушка Маша закончила техникум, нашла работу и встретила дедушку. Выйдя замуж, Маша забрала к себе Нину, но момент был упущен, – сама Нюра так и осталась навечно в девках.
В качестве компенсации за целибат она раз в год покупала себе золотое обручальное кольцо. В 50-годы в Полярном еще были скотные дворы, на которых держали коров и свиней, и она работала скотницей. Нюра была неграмотной, то есть, буквально – не умела ни читать, ни поставить подпись, верила в Бога, носила головной платок и погнутый алюминиевый крестик на веревочке.
Я, как советская пионерка, считала бабу Нюру немыслимым, позорным анахронизмом в нашей семье, стеснялась ее порока и с тоской и завистью вспоминала советские книги о том, как невежды, рожденные до революции, преображались под влиянием просвещения. Каждое воскресенье я смотрела передачу академика Капицы «Очевидное-невероятное» и мечтала переплавить отсталую бабу Нюру в высокоразвитого культурного коммуниста, вдохновляясь стихами на заставке:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…
Много лет спустя выяснилось, что академик лукавил. Недоговаривал. Стихотворение Пушкина имело еще одну, ключевую, судя по ее местоположению в финале, строфу:
И случай, бог изобретатель…
«Очевидное-невероятное» мы смотрели в гостях у бабушки Маши, а потом навещали Нюру – она жила в однокомнатной квартире этажом ниже. Баба Нюра разогревала угощение, а я, под воздействием Капицы, начинала пропаганду: «Бабушка, Бога нет, сними крестик, это же стыдно»! Приносила школьные энциклопедии с доказательствами: виды Земли из космоса. Баба Нюра отмалчивалась. Мы садились есть. Меня раздражало, что она молится перед едой, я просила ее этого не делать. Баба Нюра переставала, но я видела по ее глазам, что она читает молитву про себя.
Баба Нюра не была хорошей хозяйкой – не умела вкусно готовить, наводить уют в квартире, даже стирать она научилась уже в зрелые годы: откуда взяться хозяйственным навыкам, если в ее деревне быта не было. Деревенские не знали, например, что такое нижнее белье, и когда Нюра приехала в город, то свои первые грязные трусы сожгла в печке.
Рис ее научила варить моя мама, когда Нюре было уже хорошо за 60. Ела она каждый день одно и то же – пустую картошку, томленную в томатном соусе из банки, и хлеб. Еще делала зимние рыбные пироги – нечищенную рыбу, как есть, с чешуей и костями, закрывала соленым тестом и запекала в тесте.
Бабушка Маша подхватила Нюрину эстафету и помогала всей семье – сестру Нину определила в медучилище, Анне высылала деньги в Москву с сытных северных «полярок», а свои личные сбережения хранила на счету бабы Нюры – чтобы та чувствовала себя защищенной. Дедушка не препятствовал бабушкиной страсти помогать семье . Безропотно вырастил Нину – она жила у них в доме до училища, и после, пока не вышла замуж. Нина выходила замуж раза три или четыре, каждый раз возвращалась, потом дедушка и бабушка заново снабжали ее приданым и гуляли свадьбу. В одном из браков ее фамилия была – Смелая.
Нюра обставила свою квартиру аскетически, но ей самой казалось, что это высший шик: круглый стол, покрытый зеленой скатертью с кистями, высокая стародевичья кровать с пирамидой подушек, закрытых кисеей, и большой платяной шкаф. Я обожала этот шкаф. Снаружи он был выкрашен дешевой серебристой краской, а внутреннюю дверцу Нюра оклеила поздравительными открытками: с 8 марта, с Новым годом, Слава Великому Октябрю – для красоты.
По воскресеньям сразу после обеда я бежала к шкафу и надолго застревала перед открытками. Иногда родители оставляли меня у Нюры ночевать. Телевизора она не купила, сказок не знала, пироги ее были несъедобны. Но я не скучала. Читала книжки, принесенные с собой, делала уроки. Наряжалась в кисейную «фату», которой накрывались подушки. Царапала ногтем иней, который выступал на черном прямоугольнике окна, большую половину суток показывавшего полярную ночь. Перед сном она кипятила воду, разливала ее в бутылки, оборачивала их в свои головные платки, чтобы я не обожглась, и укладывала рядком к стеночке – сначала бутылки, а потом меня. После этого становилась лицом к буфету, где у нее хранились вылинявшие бумажные иконки, и шевелила губами – я никогда ее не дожидалась и засыпала первой.
Когда мне исполнилось 7 лет, моя бабушка Маша скоропостижно умерла. Она поехала в сопки собирать бруснику – собиралась варить варенье к нашему приходу в воскресенье. Ее так и нашли с полупустой корзинкой в руках: остановилось сердце. Кажется, потом из этой смертной брусники все-таки сделали варенье, и ели его, как кутью, поминая бабушку. Мы по-прежнему приходили каждое воскресенье теперь уже к дедушке и Нюре, но все изменилось.
Это был уже другой дом, да и сама я стала другим человеком. Ребенок рождается со встроенным чувством безопасности, с уверенностью, что с ним и его семьей никогда ничего плохого не случится. В день похорон бабушки, когда я увидела, как папа плачет на кухне, чувство доверия к миру развалилось навсегда. Я поняла, что беда в нашем мире — не случайность, а закономерность. А вот смерти я не испугалась, не вникла в ее необратимость. В тот год мне часто казалось, что я вижу бабушку, идущую по улице, в том самом длинном коричневом платье, в котором ее положили в гроб.
Бабушкина смерть вызвала в семье неурядицу: пока все потихоньку адаптировались к новой жизни, Нина Смелая отвела Нюру в сберкассу и перевела сбережения бабушки Маши на себя.
Нюра сильно сдала. Болела. Почти не выходила из дому. Продукты ей носил дедушка. Однажды в воскресенье он встретил нас с папой на улице: мы несли Нюре банку соленых огурцов, до которых она была большая охотница, но дедушка сказал: «Умерла бабка».
Мы зашли в ее квартиру – она лежала на своей высокой девичьей кровати, за серебристым шкафом, который перегораживал комнату на гостиную и спальню. После похорон Нина собрала родственников и вытащила Нюрино завещание из буфета с иконками: деньги и связку обручальных колец Нюра оставляла Нининым детям, а мне досталась зеленая бархатная скатерть с кистями.
Я была в восторге, только мне бы еще хотелось заполучить серебряный шкаф с открытками. Дедушка и родители переглядывались иронически. Мне было абсолютно ясно, что они недовольны. Еще бы, шкаф утекал из рук!
— Тетя, а как бабушка написала завещание? — подозрительно спросила я Нину, не теряя надежды заполучить шкаф. — Она ведь не умела писать? Нина засуетилась и ничего не ответила.
Мама не взяла зеленую скатерть – этого я долго не могла ей простить, пока не поняла, что Нюра, зеленая скатерть, серебристый шкаф с открытками, и даже ее немая молитва — вот они, никуда не делись, все так же при мне, как и впервые изведанные тогда боль и страх, и только смерти по-прежнему нет, потому что ее победила память.