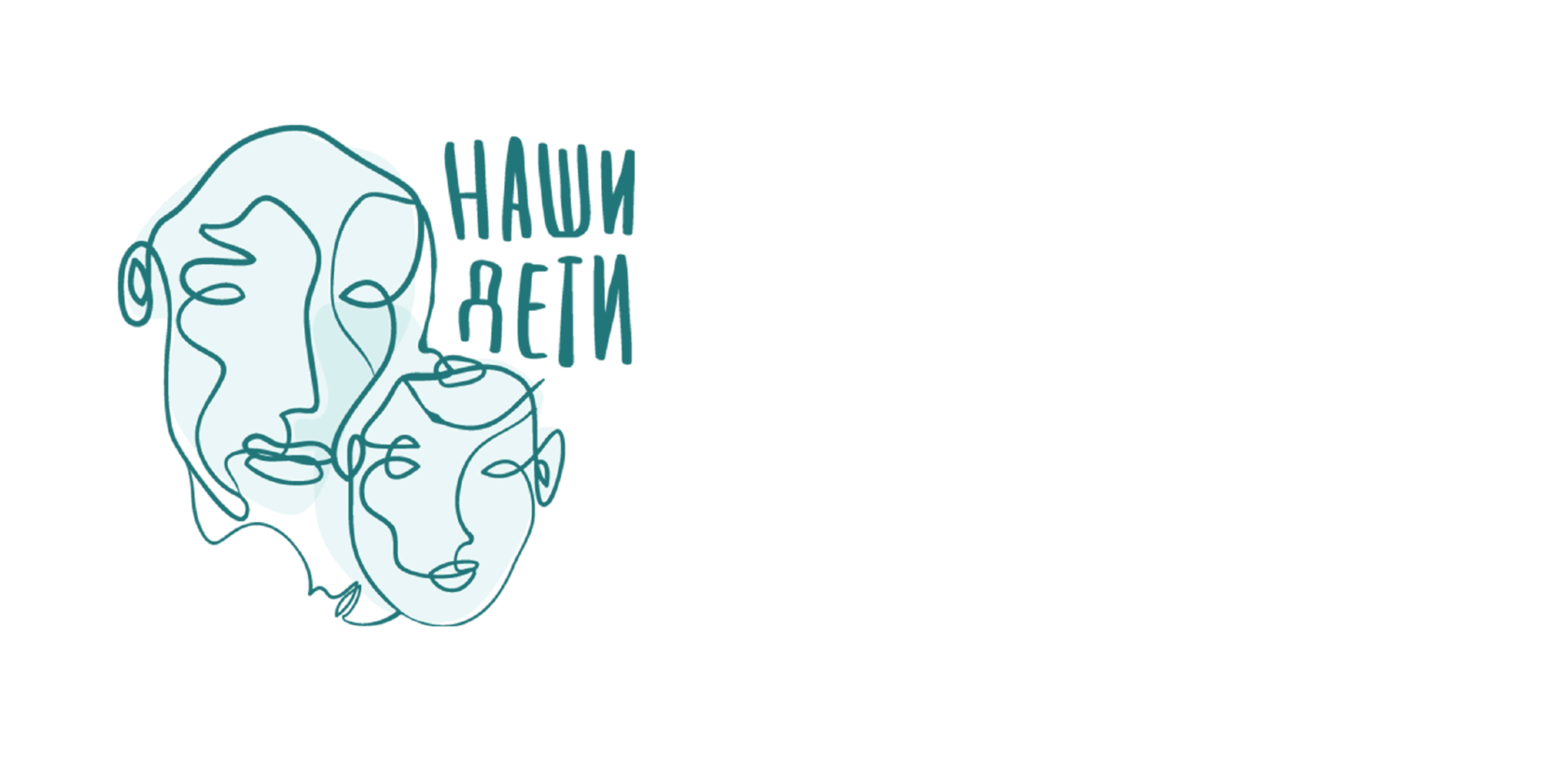АВТОР: АЛЕКСАНДРА ЖИТИНСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ
Автобиографический рассказ
Памяти Павла Егорова
Меня крестили, когда мне было шесть лет. Я помню, как смотрела на пламя свечи, и все происходящее казалось мне странным. Размытым, будто сон. Как я сюда попала? Как в руках оказалась свечка? Куда подевались мама и папа? Я оказалась в толпе чужих, взрослых людей. У них в руках тоже были свечки. Все стояли с ними рядком, и покорно слушали монотонное бормотание мужчины в золотистом плаще. Он был похож на нарисованный стог сена в солнечных лучах. Стоял к нам спиной помахивал баночкой, из которой шел дым, пахнущий сладковатым теплом. Потом он повернулся и стал подходить к каждому, у кого была свечка. Я заволновалась. Значит, и ко мне подойдет.
Тут за моей спиной кто-то нагнулся к самому моему уху, и вкрадчиво, спокойно, но наставительно предупредил: «Сейчас батюшка подойдет и нарисует тебе крестик на лбу». Я не поняла, кто это сказал, но повернуться не осмелилась. Голос был незнакомый, но приятный: бархатный и вкрадчивый, как кошачья поступь. Батюшка подошел и стал рисовать. Это оказалось щекотно. И опять пахло чем-то дурманящим, несъедобным. Но вкусным. Голос снова наставлял: «Сейчас мы пойдем друг за дружкой, подойдем к купели, и там батюшка побрызгает тебя водичкой». Я снова не решилась оглянуться, но, когда нужно было идти, рука незнакомца мягко коснулась моего плеча и, слегка направляя, повела к купели.
Холодные брызги щедро окатили меня. Теперь батюшка воспользовался большой кисточкой. Я подумала, что он, наверное, любит рисовать, раз их у него столько. А потом, когда все побрызганные вернулись в полукруг, незнакомая рука оставила мое плечо, и я сразу же обернулась, почувствовав незаметное до этой поры одиночество. Его и не было вовсе, до того момента, как рука не повела меня долго, бережно, вокруг купели. А стоило ей исчезнуть с плеча – как на этом месте, а вместе с ним и где-то внутри образовался пустой холодок, заставляющий захотеть вернуть это незаметное тепло. Будто в плечике протерлась дырочка.
Я обернулась. Немного испугалась его, он был с длинными волосами и острым носом. Я раньше не видела таких дядь. Я подумала, что это не он, но тут мой поводырь, снова ставший мне на миг чужим, сказал, разливая уже знакомый бархатный шепот: «А сейчас нужно будет покреститься. Смотри: возьми пальчики в щепотку» – и он показал мне, как. Тогда я впервые увидела его пальцы, еще не догадываясь, насколько они значительны. Они были длинные и костлявые. Я сложила свои пальцы так же, как он, и он взял мою щепоть в руку и показал, как креститься: «Ко лбу, к животу, к правому плечу, к левому плечу» — приговаривал он, повторяя моей рукой движение в воздухе, трижды. Я снова не видела его, когда мы крестились, пришлось отвернуться. Здесь, как и положено по законам сна, в котором происходил этот странный, непонятный, но отчего-то очень важный диалог между нами, все оборвалось.
Я очнулась в трамвае, от его прозаического грохота и тягучего скрипа на повороте. Снова были мама и папа. Снова знакомый силуэт города за окном. Попытка зацепиться за то пространство, которое уплывало куда-то в глубину подсознания, провалилась, вместе с воспоминанием об этом дне. Потом, взрослея, оказываясь в церкви, в основном по случаю, я по ниточке восстанавливала эти минуты, складывая их вместе с щепотью пальцев. Мама рассказывала, смеясь, что я тогда выпила две порции кагора, попросив добавки, и уснула у папы на руках по дороге домой.
В какой-то другой момент детства, выждав и выносив в себе любопытство до предела, я задала ей вопрос, «А кто был такой странный дядечка, который все время говорил мне, что надо делать?» — оказалось, это был мой крестный отец. Еще в какой-то момент, опять совсем не помню в какой, между строк, не важно, походя, всплыло в разговоре, что мой крестный – пианист, профессор консерватории, Павел Егоров. Мама всегда называла его Паша. Этот вариант предложил мне и он, «дядя Паша» — когда я увидела его снова, через двенадцать лет после крещения.
Наступил момент выбора профессии, и, то ли стратегический замысел мамы, то ли провидение, вывели меня к моему крестному, как к педагогу. Я заканчивала училище, как ни странно, не особенно мечтая посвятить себя музыке. Вернее, размышляя над альтернативами, тогда как другим казалось давно, что их уже не может быть. Я шла на красный диплом. Играть на рояле мне нравилось, педагоги и родители были за, и вот меня привели в класс профессора. Я играла ему сонату Шумана, мотив которой сейчас я даже не напою, но помню, что играла именно ее. Потому что особенно волновалась, зная, что Егоров – лауреат конкурса Шумана и что лучше него Шумана никто не играет. Или от того, что помнила, как его рука вела меня в обход купели. Мне было трудно сопоставить события детства и то, что происходило теперь, когда я играла, а он сидел с сигаретой меж пальцами и слушал. Потом, опять не помню как, он сказал, что возьмет меня к себе в класс, если я пройду все испытания. Конкурс был большой, около десяти человек на место. Я прошла. На курсе быстро прознали, что Егоров мой крестный, и меня стали называть «блатной». В самом деле, я тоже ощущала, будто бы поступила не сама. Будто он снова положил мне руку на плечо и вел в нужном направлении. Это начало страшно мешать. Вдобавок, что ни экзамен, то моральное испытание. Я всегда помнила, что я его крестница. Я называла его дома в разговорах с мамой «Паша», а к нему даже наедине обращалась «Павел Григорьевич». И хотелось сыграть так, чтобы ему не было за меня стыдно. Хотелось, чтобы гордился. Чтоб «дядей Пашей» стал, заслужить близость, на которую внутренне не давала себе права. Но почему-то не получалось. Я словно оказывалась в ловушке, выстроенной самой же себе. Мне все думалось, вот сейчас случится какой-то контакт, как тогда, важный, простой, тихий. Но уроки были всегда открытые, на них вместо откровений делались публичные замечания, иногда довольно ироничные и хлесткие. Впрочем, к девочкам Павел Григорьевич был снисходителен:
— Рыбонька моя! Киска! Пти-чеч-ка! Ну нельзя здесь так брать педаль! Нельзя! Это же Бах, понимаешь? – говорил он, а мне ничего не оставалось, как краснеть и все больше бояться этих публичных разборов полетов, на которые я все чаще приходила в качестве слушателя, говоря, что не буду играть сегодня. Мало-помалу, профессор тоже отстранился от меня, поняв, что у меня всегда есть стабильная четверка, что про меня всегда говорят «хорошая девочка, только не доучила текст», хотя я, конечно же, доучила его, просто как всегда переволновалась и ждала, что шеф скажет, как и при поступлении: «Это моя крестница».
Словно издевкой мироздания стало его появление ранней весной с пачкой мацы под мышкой и в расшитой разноцветными нитями кипе. Он шел по коридору консерватории в класс, был в невероятно приподнятом настроении и поздравлял всех то ли с пуримом, то ли с ханукой. И, хоть до этого тема религии никак не всплывала в нашем общении, глубоко нырнув в единственное детское воспоминание и сжавшись до щепотки пальцев, но я все же впала в раздумья: «Если крестный принял иудаизм, то что должна делать в этом случае крестница?». Хотя на самом деле он всего лишь принял предложение играть концерты в Синагоге. Просто принял его всей душой и со всем возможным артистизмом.
Все, на что тогда хватило моего соображения – это дипломатично угоститься мацой и как ни в чем не бывало прилежно продолжать исполнять салонные пьесы Чайковского. Они были такими скучными, что Егоров, обыкновенно сидевший в классе за вторым роялем, пересел на стульчик у окна и, как всегда покуривая, стал рассказывать одному из любимейших учеников что-то про Синагогу, концерты, еврейский народ и праздник Пурим. Я чувствовала себя полной дурой, но продолжала играть. Помню этот урок особенно, как апогей бессмысленности собственного пребывания в стенах этого Храма Искусства. Во время моей игры Павел Григорьевич неосторожно кинул сигарету за батарею, а до этого кто-то кинул туда пачку конспектов. Последняя салонная мазурка из цикла пьес сопровождалась запахом гари и небывалым оживлением в зале. Все тушили пожар. Финальные аккорды ознаменовали победу над опасностью и торжество бессмыслия для меня, как пианистки. И если сейчас это вспоминается с невольной улыбкой, тогда это была трагедия, насмешка судьбы, знак свыше.
Я практически перестала ходить на специальность. Брала какие-то невероятные пьесы, чтобы наверняка не вышло, учила их до посинения и бросала за три недели до концерта, понимая, что нужно срочно выучить что-то новое, что я хоть как-то осилю и смогу сыграть на «академе». Когда было совсем невмоготу, бегала в училище, к бывшей преподавательнице и играла выученное наспех ей. Егоров проявлял участие, спрашивал, где я, почему не хожу, я несла в ответ ахинею. Я ходила на его концерты. Дарила цветы после. Иногда переворачивала странички, когда профессор играл по нотам. Даже в Синагогу ходила один раз. А потом я взяла играть Рахманинова «Вариации на тему Шопена».
Не помню, как эти титанические вариации пришли ко мне. Произведение массивное, из разряда «выше головы не прыгнешь», и очень редко исполняемое (по непонятным причинам). Я взяла его в середине третьего курса, в надежде выучить больше получаса фактурной, неохватной, как все вместе взятые русские степи музыку за пару месяцев.
Походило время концерта. С текстом были проблемы. Егоров, выслушав, посоветовал заменить, пока не поздно. Я впервые не послушалась. И вышла в крайне сыром виде с этим Рахманиновым на суд общественности. Результат был каким обычно, хотя превзошел мои ожидания. Комиссия обсуждала план дачных посадок на ближайшее лето, а я как обычно, забывала текст. Твердая четверка. Только поставили плюсик, который шеф трактовал так: «За смелость тебе надбавка». Все бы ничего, но меня угораздило влюбиться в эти вариации так, как я не влюблялась до этого даже в моего любимого Шопена. И, проглотив обиду, я снова взяла их на следующий год. На выпуск. Повторить что-то одно из старого репертуара разрешалось.
Я учила их заново почти год. Ходила к Егорову. Бегала в училище. Перебарывала бесконечный стыд и стеснение от собственного несовершенства. Играла дома и в классе публично бешеное количество раз. Даже молилась. А дно у произведения становилось все глубже и глубже.
К гос.экзамену мне казалось, что я знаю смысл не только каждой ноты, но и каждой тактовой черты в этом произведении. Оно было про смерть. Точнее, про ее принятие. Мне тогда было об этом ничего не известно, не доводилось никого хоронить. Только потом я поняла, насколько это все правда. Короткая траурная тема четко диктовала неотвратимость утраты. А дальше шли вариации про то, как сперва уходит почва из-под ног, когда остается только одна мелодия — ниточка, связывающая две жизни – твою и того, кто ушел, как они вырастают в смятение, сменяются невероятной красотой самых дорогих воспоминаний в гармонических арпеджио, переходят в массивные траурные аккорды, озлобленные сфорцандо, беспомощные обрывающиеся пассажи, истерические октавы, многоголосные фуги утешения, тихие мажорные эпизоды нежности, разбегающиеся в страхе двойные ноты, грохочущие от ужаса пустоты басы, перекликающиеся с беззащитными прозрачными колокольчиками детских снов…
А в самом конце – лавина радости, от того, что любовь продирается сквозь все эти черные точки, пытающиеся запятнать потерей и одиночеством того, кто остался здесь. Но рахманиновская кода вибрирует, взяв разбег по всей клавиатуре, кричит во все горло о торжестве этой любви, о смысле жизни за тактовой чертой, о победе жизни над смертью.
Мне поставили пять. Но все это я рассказала еще накануне экзамена дяде Паше, единственному слушателю, который был важен для меня в тот момент. Мы вышли с репетиции из зала почти в полночь. Он произнес только одну фразу: «А ты, оказывается, умеешь играть на рояле». Этого было достаточно, чтобы на следующий день суметь рассказать свои мысли на экзамене всем, с кем было безразлично – молчать или говорить.
Потом мы почти не общались, я не пошла по пути исполнительского искусства. Павел Григорьевич появлялся в моей жизни в самые острые ее моменты. На похоронах папы. Мамы. А потом вдруг на моем дне рождения, спустя 10 лет после выпуска. Просто прочел в фейсбуке про открытое чаепитие и приехал поздравить. А вскоре написал в том же виртуальном пространстве: «Дорогая Сашечка, желаю тебе всего самого хорошего и доброго. Твой плохой крестный. Скоро меня не будет».
Я успела прийти к нему за несколько дней до кончины и сказать, что он очень хороший крестный. И что я осилила Рахманинова ради него. Это правда, которую я вдруг поняла, когда почувствовала уже знакомый холодок от дырки в плече. Иногда духовный учитель учит тебя не только креститься и вникать в суть Евангелия, но говорит тебе про басы и педаль и показывает, как нужно играть Рахманинова. Он улыбнулся, несогласно, но благодарно покачал головой и взял меня за руку своей, практически прозрачной на ощупь, обессилевшей уже рукой. А потом подарил последний диск и показал вкладку со своим редакторским примечанием: «Здесь все неправильно играют, тут нет лиги у Моцарта», хотя знал, что я вряд ли буду разучивать этот концерт. Он даже в последнюю встречу остался моим учителем.
Мы прощались с Павлом Григорьевичем в церкви. Он был совсем не похож на себя, и я смотрела только на цветы, которые все принесли ему, как на концерт. В моих руках горела свечка. Священник с кадилом читал молитвы, хор вторил ему плавными окончаниями застывающих, как капли воска, музыкальных фраз. Вокруг было много незнакомых, взрослых людей. Куда-то подевались мама и папа. Я крестилась так, как крестилась всегда, повторяя про себя считалочку дяди Паши, вытащенную из кармана детства: «ко лбу, к животу, к правому плечу, к левому плечу». Мне очень хотелось обернуться, проверить, что же за мной – пустота или все-таки кто-то родной, пусть не такой знакомый, но с бархатным голосом и рукой, которая опустится на плечо и мягко и незаметно направит меня туда, куда мне следует идти. Но я так и не обернулась.
Я знала, что оборачиваться не нужно. Потому что настоящее движение внутри нас не вперед и не назад. Не из прошлого к будущему. А из глубины вверх, по той единственной хоральной вертикали настоящего, по которой брала разбег рахманиновская кода, вылетая, вопреки законам и форме текста за двойную тактовую черту, означающую слово «конец».