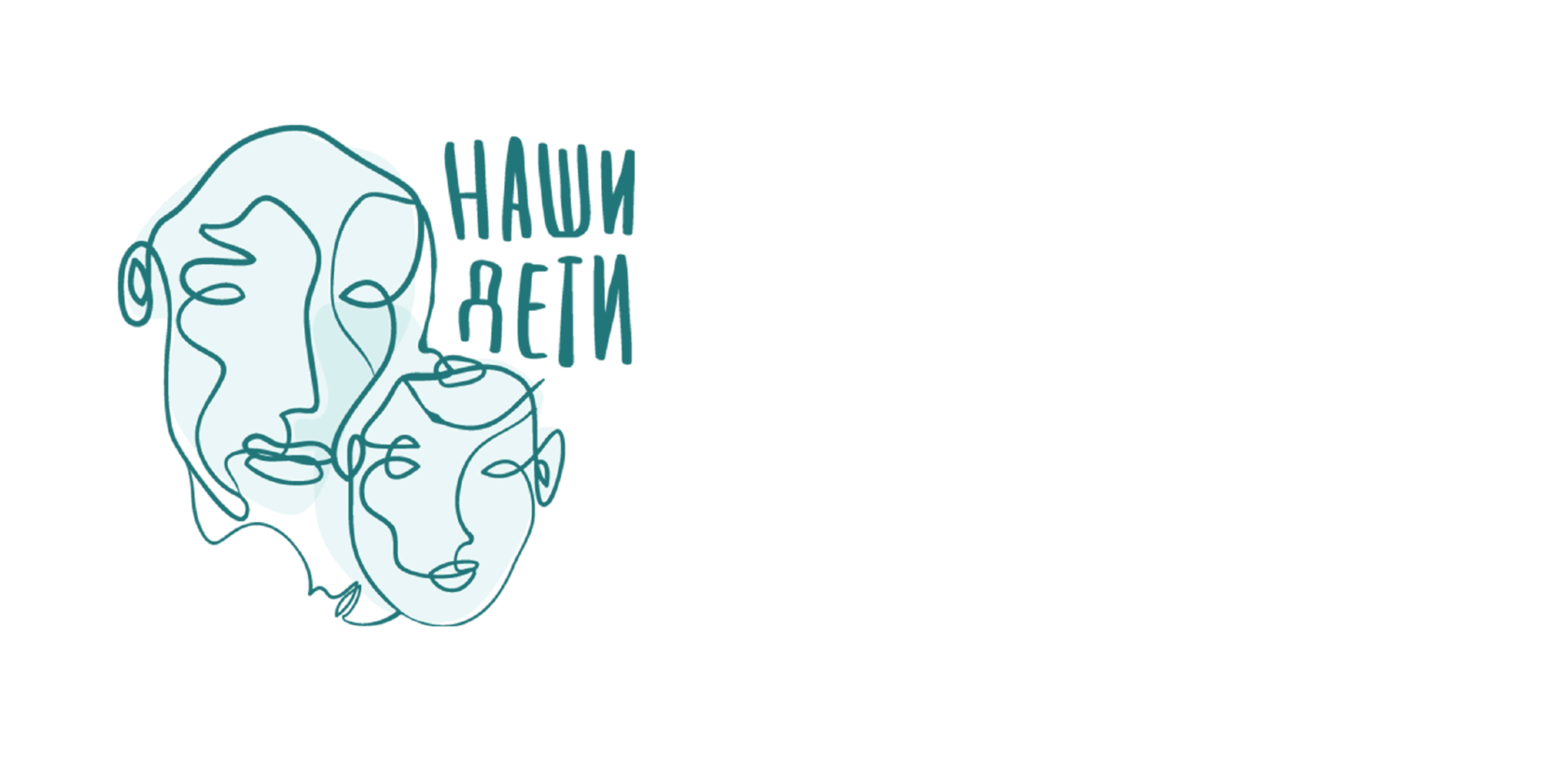Автор: Евгения Лысенина
ФОТОГРАФИЯ:
Растет мальчишка. Сказал мне на днях серьезно: «Мама, мне челка на глаза лезет. Надо постричь. Пошли в парикмахерскую». И носки рассматривает придирчиво, чтобы не оказались похожими на девчачьи.
Выкристаллизовывается его умение помочь — открыть дверь, успокоить брата и найти ему игрушку или отвлечь на другую, сказать что-нибудь хорошее или наоборот промолчать — и все это с невероятно взрослым спокойствием и естественностью, не осознавая, что красив в этот момент. А буквально через секунду — снова мальчишка, быстрый, не так чтобы очень послушный, упрямый. Сплевывать на асфальт научился так, как я никогда не умела. А недели три назад заинтересовался содержимым холодильника.
Тот самый мальчишка, который раньше был — «плоть былинкою довольная». И я вспомнила, как года полтора — два назад нужно было срочно вести сына на УЗИ органов пищеварения, а свободная запись была только часов на 5 дня. Но перед УЗИ ведь не едят. Т.е., с самого утра, или если быть точным, то с позднего вечера предыдущего дня — ребенок голодный. Сын-то перенес более чем стоически, ни разу за весь день (можно и крупными буквами для оценки масштаба ситуации — НИ РАЗУ ЗА ВЕСЬ ДЕНЬ!) не вспомнив о том, что люди имеют свойство периодически хотеть есть. А я не очень.
И всплыл в памяти весь тот период, который был сплошь «не очень». Если бы меня попросили образно сформулировать, что такое ад, каким я его себе представляю, то я бы рассказала о тех днях. Тех днях, когда дети были не детьми, а живыми свидетельствами моих ошибок, моей вины. И я видела в них только свои промахи и ошибки. Не ест — я виновата. Ест — я виновата (потому что не то ест, мало/много ест). И сыпь на коже, каждый прыщик — упрекали меня. И худоба детей, которых я никогда ранее не ощущала худыми, они были моей беспрестанной, каждодневной радостью, и вдруг перестали быть радостью — я видела только вес. И на других детей смотрела, как на бегающие куски мяса на костях: достаточно ли они жирны и мясисты. Писается младший — моя вина. Не говорит — моя вина. Всех боится — моя вина. Ходит на цыпочках — моя вина. Свалился — моя вина. Не отпустила на горку, чтобы еще раз не свалился — тоже моя вина.
Так проходили дни, являя мне тысячи моих мелких и больших, плавно друг в друга перетекающих ошибок. И возникал вопрос, казавшийся вполне логичным в строе абсурдных мыслей: «А если я сплошь источник уничтожения по крохам, по кусочкам для детей, то…? Да.
«Однажды преподобный Макарий шел по пустыне и нашел высохший человеческий череп, лежавший на земле. Повернув его своим жезлом, преподобный услыхал, как будто он издал какой-то звук. Тогда Макарий спросил череп:
— Кто ты такой? —
Я, — отвечал тот, — был начальником языческих жрецов, обитавших на сем месте. Когда ты, авва Макарий, исполненный Духа Божия, умилосердившись над находящимися в муках в аду, молишься за нас, мы тогда получаем некоторое облегчение.
— Какое же облегчение получаете вы, — спросил Макарий, — и каковы ваши мучения, расскажи мне?
— Как далеко отстоит небо от земли, — отвечал со стоном череп, — так велик огонь, среди которого мы находимся, палимые отовсюду, с ног до головы. При этом мы не можем видеть лица друг друга. Когда же ты молишься за нас, находящихся в аду, мы видим немного друг друга, и это служит нам некоторым утешением».
«Мы не можем видеть лица друг друга» — как это точно. Я не видела лиц детей. Они были рядом, я их кормила, с ними гуляла, переодевала, мыла, разговаривала, укладывала спать, чему-то даже учила, но не видела.
Как хорошо, что это прошло.