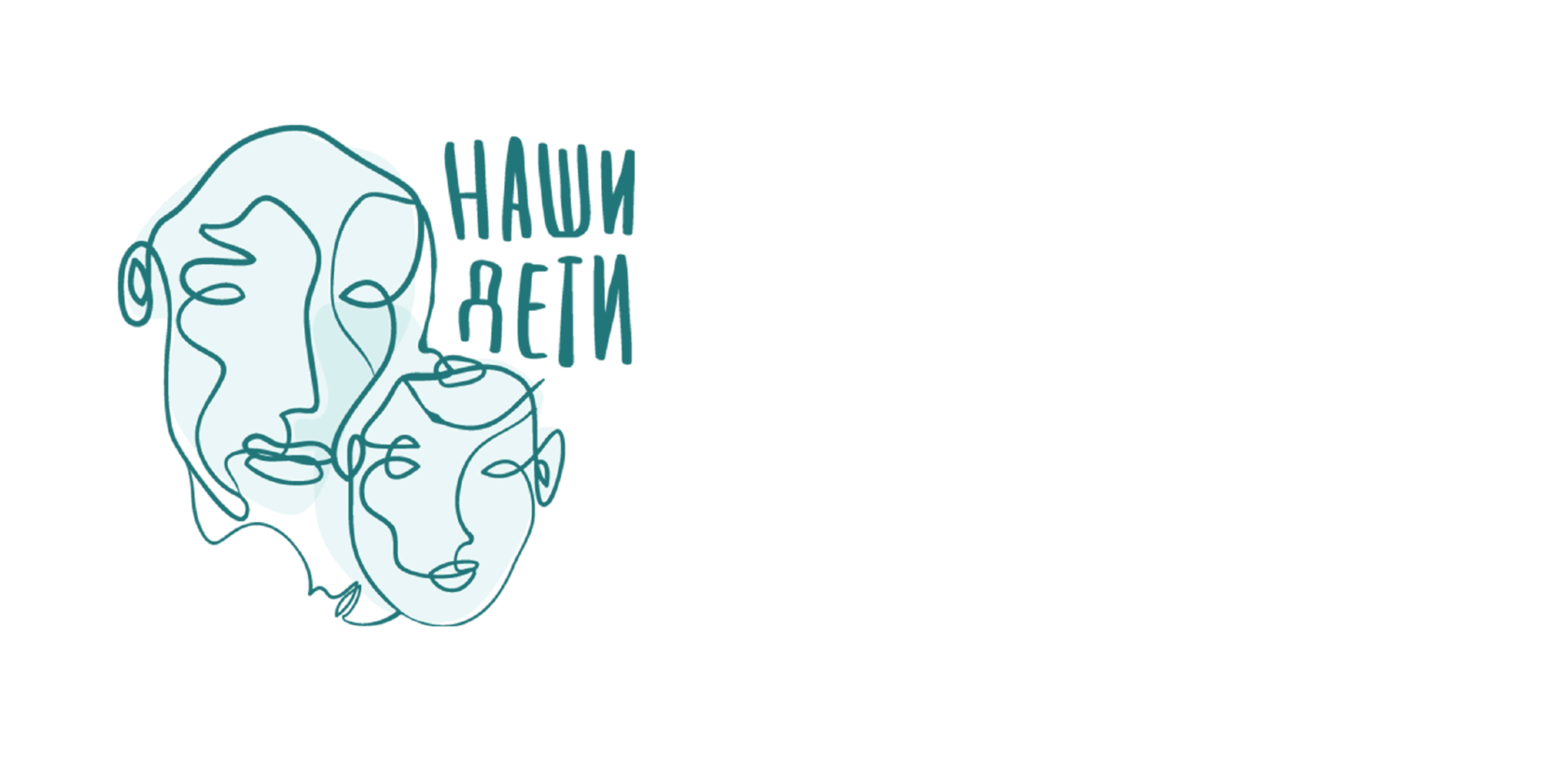Автор книги О том, что есть в Греции
Даже сейчас, в почтенные сорок два, я не могу похвастаться ни мудростью, ни каким-то более-менее отчетливым соображением (не прибавляю риторическое «к сожалению», потому что – право слово, ну нельзя же сожалеть о порядке вещей, к установлению которых ты не имеешь ни малейшего отношения. Это как если белый медведь вдруг заныл бы о том, что он живет на севере, разворчался бы – а почему это он невыездной: доступ к военной тайне у него, что ли? Да ведь он только раз, одним глазком, и то ненарочно, подводную лодку в десяти километрах от себя и видел. Зато на теплом море ни разу в жизни не был. Сиди теперь всю жизнь на льдине, жуй неприятного жирного тюленя или недиетические чипсы из кита – в лучшем случае; как последний провинциальный лох. Тьфу на такую жизнь. А у него, может, голубая мечта – тигровые креветки и рыба-попугай. И купаться – загорать без шерсти. Обнаженным. В купальнике.
Так вот, значит, мне сорок два. Я в свои годы – обычный среднестатистический маленький человек, акакий акакиевич. Только такой, малоинтересной версии — Гоголь бы прошел мимо: шинель у меня не только не украли, а выдали аж целых несколько, и даже норковая шубка имеется; считай, жизнь удалась. Но без приключений, а стало быть – не о чем писать. Но в детстве я успела побыть особенной. Дело в том, что я отличалась редкостной, изумительной, просто-таки калиброванной дурью.
Например, я ненавидела свои имя и фамилию. Катя Федорова. Боже. Атас. И за что меня так не любят родители, ныла я, откладывая обиды на потом и не подозревая, что с моей помощью, как Шариков у профессора Преображенского, зарождается бесполезная профессия 21-го века: психоаналитик.
Я сводила с ума родителей, заставляя называть меня именем, которое, на мой собственный вкус, идеально подходило моим представлениям о себе, текущей модной повестке и общим эстетическим законам мироздания. Имя было такое: Росица.
Как жаль, что у меня нет архива! Беда. Иначе я бы сейчас смогла перечитать те записки, которые мама, уходя с утра на завод, писала мне своим каллиграфическими, острыми, как булавки, буквами, кое-где смягченными барочными рокайлями над «й»:
— Дорогая… (тут буквы непроизвольно разжимали руки, выдавая мамину растерянность) Росица! Суп в холодильнике. Разогрей. Котлеты на плите. Квитанция за музыкалку на телевизоре: не забудь отдать Ирине Георгиевне. Целую, мама.
Папа одной моей подруги называл меня не по имени, а по имени-фамилии, без пробела, вот так – катьфедорова. «Катьфедорова, а у тебя что по контрольной по математике? Наша Лиза пятерку принесла». Ощущение от слипшегося в бесформенный комок имени было бррр – как будто по руке проползла улитка и оставила слизь. То же чувство вызывала математика, контрольные, и особенно – оценки; но не будем о грустном.
Остро помню отдельное чувство стыда, которое я испытывала по поводу своей фамилии. С такой лишний раз не улицу не выйти, не то что в школу: такую только на табличку у позорного столба. Казалось бы, что особенного в моей русопятой, ничем не выдающейся фамилии? Но она стала для меня одной из центральных проблем детства. Почему? Да потому что на мой век выпал обожаемый всем Советским Союзом мультик про «Простоквашино». После его выхода я перестала быть. Меня в природе больше не существовало. Ни в детском саду, ни в началке. Катю Федорову забыли. Отныне и присно меня звали Дядя Федор. Детство было испорчено.
Я ненавидела мультик, сломавший мне жизнь. Страстно завидовала Кате Тимофеевой, Кате Ивановой, Жене Корнеевой, Лизе Алешкиной. Почему мне, за что? Они такие же, как я, но их миновала чаша сия.
Понятное дело, и мыртв бе и оживе. И сгыбл бе и обретесен. Имя ко мне вернулось — когда мне уже было все равно. Хоть горшком назови. Только в детстве это вопрос жизни и смерти.
О, мир детских прозвищ! Необъятный, бескрайний, неразъясненный как вселенная. Говорили недавно с Пицык. Она спрашивает:
— Знаешь, как меня дразнили в школе?Я воспользовалась поводом блеснуть перед любимым другом остроумием.
— Конечно, Пицца!
Катя вздохнула. Спокойно поправила:
— Катя. Пицца появилась в России двадцать лет назад. Мне сорок. А вот писька – явление, похоже, вечное. Причем не только в нашей стране. Но и на всем белом свете.
Мою дочку зовут Черная Маша. Ну, потому что я в некоторых местах амбициозна. Мечтала стать хорошей мамой; пусть несбыточно, как белый медведь о рыбе-попугае. Щурилась в перспективу. Заодно исправляла ошибки своих родителей. (Здесь сарказм, потому что для детей менее болезненно, когда родители делают свои собственные промахи, а не «исправляют» ошибки предыдущих предков).
Кстати, единственная причина, по которой мой идельный план сорвался, – непредвиденное рождение режиссера Квентино Тарантино.
Поэтому однажды, когда однажды Маша пришла из школы в слезах, я села на пол от удивления, узнав причину:
— Меня дразнят из-за имени.
— Но как?!
— Черная Мамба.
Аргументы о том, что это круто и фильм культовый – не работали. «Простоквашино» тоже культовый. Когда это вас лично не касается.
Зачем воообще детям переименовывать друг друга? Вопрос такого же качества, как: а зачем испытывать чувства. Прозвище – это пароль. Билет в другой мир. Дети думают, наверное, что в мир взрослых. А взрослые вспоминают о том, детском.
Откуда тоска по тому времени, где нас звали дядей Федором, Черной Мамбой, Писькой; в котором мы были беззащитны, ранимы, наивны, глупы?
Почему детские воспоминания на вес золота? Наверное, потому, что именно в детстве любой человек – особенный. А когда вырастает – уже не любой. Не каждому везет. Что бы я отдала, чтобы туда вернуться? В детство? Но в том-то и штука, что отдавать мне нечего.