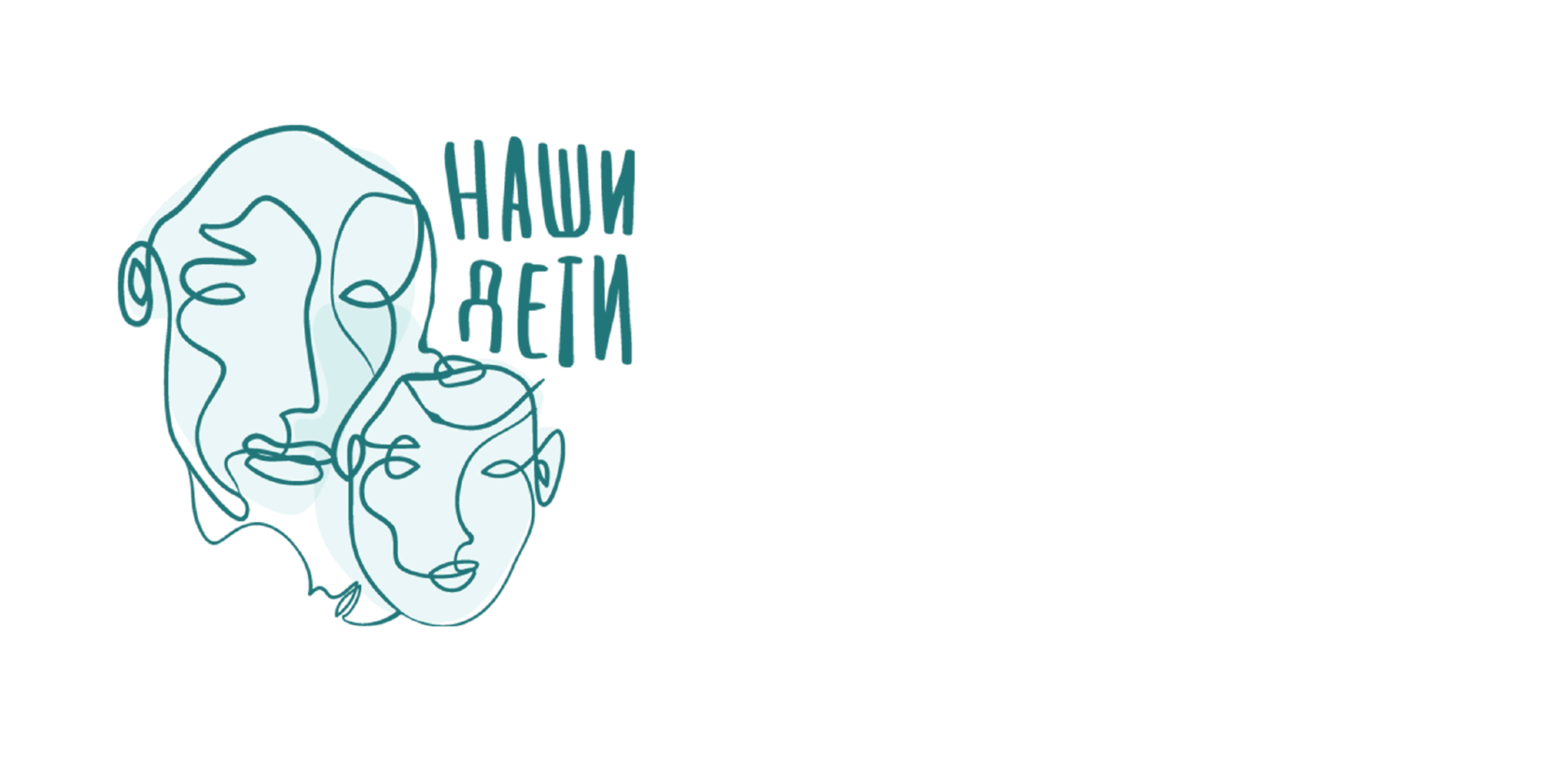Автор книги О том, что есть в Греции
Бестелесная, сухая, как цикада, старушка в панамке, завязанной под подбородком шнурками, чтобы, не дай Бог, ее не сорвал ветер, заходит в минимаркет. Снимает солнечные очки, подвешивает клюку на локоть, бодро шурует прямиком к полке с винами. Долго вглядывается. Ее приветливое лицо деградирует в минор. Видно, что что-то пошло не так.
– Только литровые остались. Вот она тебе – старость. Не успеть за молодежью. Полуторалитровые уже разобрали. Шустрые!
В таверне у Никоса расслабленная симпосийная обстановка. Односельчане закупили овощи и фрукты на рынке и пришли к нему пить кофе, есть шашлычки-сувлаки. Пожилые греческие дамы в черном, при тридцатиградусной жаре вышедшие в свет в туфлях и чулках, чинно заказывают пончики в меду, которые специально к рыночному дню испекла Мэри.
Жена продолжает делать покупки и кричит мужу, уже засевшему в кафе:
– Какую дыню брать?
– Бери красивую! – отвечает муж, не отвлекаясь от пива.
Деревенский поп, отец Власий, в расстегнутом подряснике, обнажившим синюю линялую майку, в выцветшей скуфейке набекрень, дремлет за крайним столиком. Перед ним недопитый стакан холодного кофе, в пепельнице дымится сигарета. Два парадно одетых старика (брюки с ремнями; свежие рубашки) тянут из высоких стаканов мутное ото льда узо. На блюдечке несколько блестящих оливок, заветренный кусок сыра, хлеб. Еда не имеет первостепенного значения. Гостей интересуют удовольствия иного рода: тень, влажнопенный кофе, воспоминания. Воспоминания преображают тебя сегодняшнего; старый человек – тот, каким он был до того, как начал вспоминать, приятно молодеет и обновляется. В этом и состоит сладость мемуаров.
– Времена были другие, – запускает процесс омоложения один из стариков, в синей рубашке и сандалиях на босу ногу. – Зайцов было столько… Что тебе сказать! Отец однажды собирал на поле кукурузу, зайцев кто-то вспугнул, они рванули… Стаей…Прямо на него! Он колени схлопнул и оглушил одного. Отлично тогда пообедали. И это он не охотник был. Охотился мой дядя Ангелос . Ночью. Выходил ровно в полдвенадцатого. В этот час зайцы всегда на дорогу выскакивали, прихорашивались.
– Прихорашивались?
– Ну, приводили себя в порядок. Занимались собой. Как хочешь назови. Красота. Ботэ. В их, в заячьем, понимании.
– То есть?
– То есть, катались по дороге, вычесывали блох. Дядя много лет охотился за одним – здоровущим, умным. Заячий Стивен Хокинг. Жирный – на удивление. Еще бы, долгожитель! Его личный враг. Дядя его гнал собаками. Но он, стервец, выучил один трюк: между полями, разделенными плетнем, была канава. И этот матерый зайчище летел, перепрыгивал через плетень, а сам нырял в канаву. Залипал там, распластывался, затихал, как осьминог. Собаки – скоком через изгородь, как дураки, и, вперед. Естественно, теряли след. Годами гонялись за ним, годами! Без результата. Говорю же – Стивен Хокинг!
Старик в синей рубашке делает глоток, чтобы передохнуть, и после паузы форсирует драматургию.
– Так вот, – продолжает он, ободренный то ли узо, то ли музами, а скорее всего и тем, и другими. – Однажды дядя опять напал на след ветерана. Спугнул его, тот мчит. Прет по обычному маршруту, на канаву. Хотел, как обычно, перекинуться через изгородь, но… возраст… Не взял высоту. Сальто – ёк. Все когда-то бывает в последний раз. Бумкнулся о плетень, завалился. Лежит без чувств. Сознание потерял, но дышит. Собаки обратно ничего не поняли, перепрыгнули и побежали дальше. И опять бы он спасся, везунчик седобородый, но на его беду в своре была одна маленькая собачка, которая не смогла перепрыгнуть ограду. Она-то его и учуяла… И сдала всей стае. Так-то. Давид завалил Голиафа.
– Заяц, говоришь, – откидывается на спинку стула его гомерид-собеседник, и в свою очередь вкладывает лепту в бурлеск. – А я однажды ел ежа.
– Как это получилось?
– А вот так. Жил я тогда уже не дома: в 12 лет родители отдали меня в город, к тете и дяде. У нас детей полный дом, и в нашей деревне гимназии не было. А у тети и дяди – ни детей, ни забот. И комната свободная. Родителям было некогда меня любить. Этим занимались тетя и дядя. У них сначала была таверна, а потом они бац! и сделали шикарную карьеру: устроились в гимназию работать. Тетя звонила в колокольчик и продавала в перерывах пироги, а дядя сторожил.
– Родители за твое проживание платили?
– Естественно. Яйца, баранина, фета, зеленая фасоль – мешками. Хлеб пшеничный – у всей деревни был кукурузный, только у нас и у Каррасов – пшеничный. Ну. И я им помогал. Продавал с тетей пироги. Кассу она только мне доверяла. Потому что я отлично считать умел. Точно тебе говорю – как сын им был. Так вот, тетя один раз зовет меня с улицы – Филемон, домой! Кушай, пока горячее! Я сажусь за стол, ем: мясо. Поел, спрашиваю: «А что это было»? Тетя спрашивает: «Тебе понравилось»? – Да, – говорю, – только я не понял, что это. На свинину не похоже. Оказалось – ёж! Тетя его в глине запекла, чтобы не возиться с иголками. А он такой жирный, сочный… дело шло к осени: бедняга переел инжира, винограда, дынных корок. Зимний еж не такой вкусный: мышью пахнет. Да…
Филемон замолкает, съедает оливку, отрезает себе сыра. Чувствуется, что история еще не закончена, висит на специальной технической паузе, во время которой можно покашлять, пошевелиться, сесть поудобнее, но которую неприлично прерывать аплодисментами, как части симфонии в филармонии.
– Потом я вырос, уехал. Однажды звонит дядя и говорит строгим голосом: «Филемон! Дай мне двести тысяч драхм! Немедленно! Завтра!» Ну, я дал…
– Это почему еще? Типа за воспитание не расплатился? – спрашивает синяя рубашка.
– Какое воспитание? Мне уже пятьдесят лет было. Просто дядя в карты играл, и вот… Понадобилось срочно.
– Выходит, они тебе обязаны?
Филемон жестко сводит юпитерские брови:
– Нет. Это я им обязан! Не научили бы они меня любить – быть мне неудачником! А так я отлично прожил жизнь. Не жалуюсь.
– Аминь, – отзывается проснувшийся папа Власий. Закуривает новую сигарету и отхлебывает нагревшийся кофе.
– Э! Батюшка. А тебе не запрещено курить? – спрашивает его Филемон
– Конечно, запрещено.
– Тогда почему ты куришь?
– Так из-за того, что запрещено, сигарета приятнее. Вижу, давно ты не был на исповеди, все забыл, приходи, дружок, объясню, как православие устроено!
За соседний столик присаживется давешняя старушка в панамке и с вином в пакете, заказывает кофе.
– Конечно, дома кофе пить дешевле, – говорит она подошедшему с чашкой Никосу. – Но вкуснее, когда тебе его готовят. Вот сейчас посижу, людей посмотрю, сама скажу пару глупостей… А что еще старому человеку надо? Работать уже не могу. Все, что мне осталось — получать удовольствие!