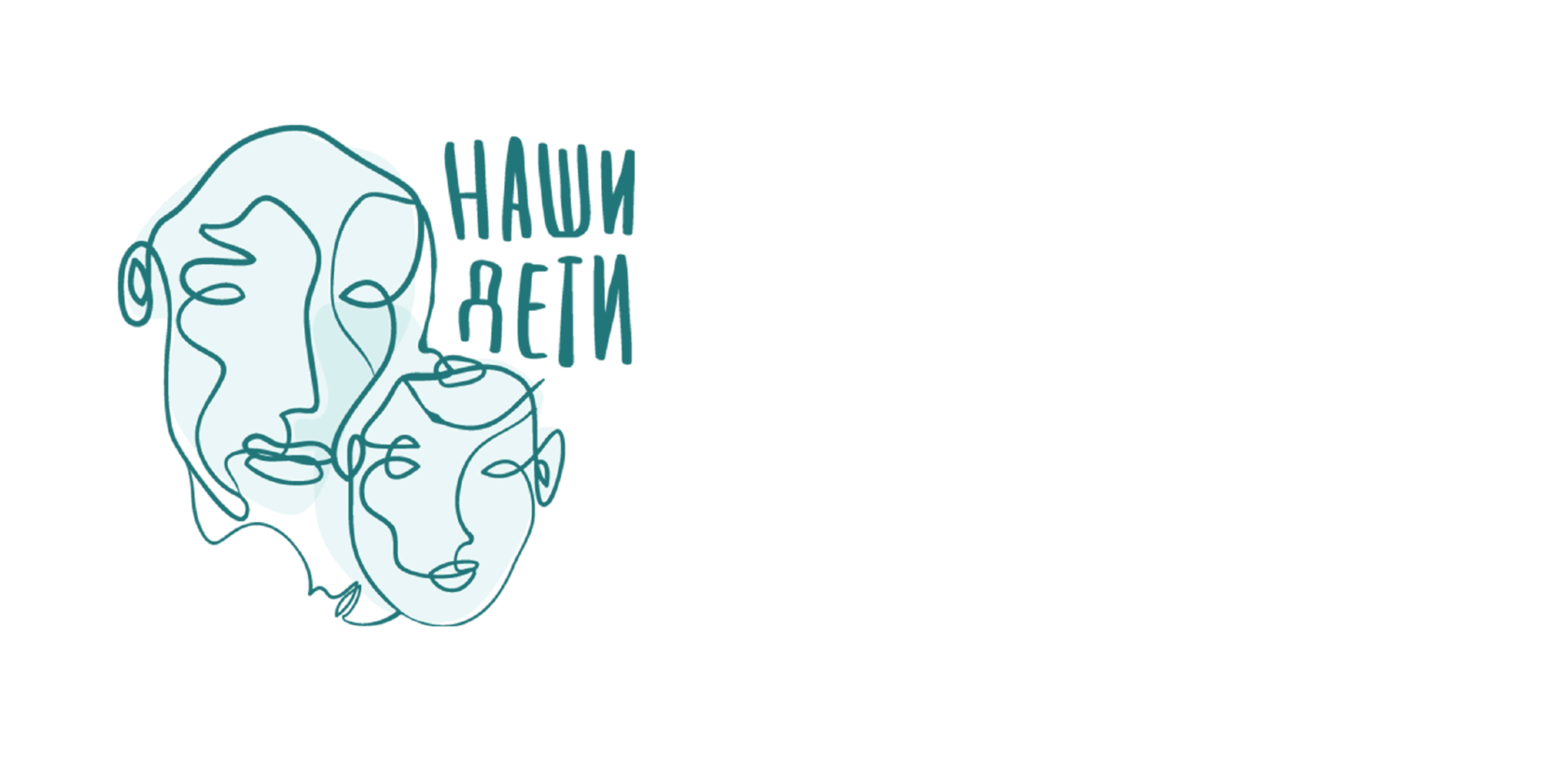…а моей бабушке было двадцать пять, хорошенькая, ясноглазая: скотская жизнь еще не согнула ей спины и не скрючила пальцев. Хотя ноготь правой руки уже изуродован: война, Москва, двенадцатый час у токарного станка, палец попал под резак.
Ей, девочке, конечно, повезло, потому что всех мальчиков из их класса убили в течение месяца. Призвали в июне, а в конце лета пришла последняя, заплутавшая похоронка.
Одному из них, Мишке, бабушка отправила на фронт свою маленькую, три на четыре, фотографию — он очень просил, и вот треугольное письмо с ее простеньким деревенским личиком вернулось. Адресат выбыл, и ему больше не нужна Валина карточка.
Свои чувства бабушка описывала словом «неприятно». Было очень, очень неприятно. Фотокарточку выбросила, письмо порвала. Никому ничего не рассказала.
В двадцать пять лет у бабушки была семья: маленький сын и пьющий, распускающий руки, ревнивый муж. Их сосватала какая-то тетка, какая-то Нюрка: всех побили, а замуж идти надо, ну, пьет, ну, старше. Ну а что ж, вековухой жить? А кто не пьет? После ЗАГСа дед купил бабушке грушу.
Видите, я пишу: распускающий руки. Я предаю бабушку этим аккуратным выражением, оберегая себя от ее боли, ведь она была такой светлой, открытой, невозможно представить, как он мог.
Но он, конечно же, мог и бил, и толкал, и отшвыривал, и, наверное, попадало и по ее скуластому свежему личику. Дед был высокий, и мы все до единого рослые, длинноногие, не в бабушку.
И вот моя бабушка бежала на завод. Я всегда слушала эту историю, не соотнося расстояний, потому что речь шла о той самой встрече. Но бежала она порядка десяти трамвайных остановок.
Бабушка спешила на смену и в привычной панике заглядывала в окна, где, как она знала, есть ходики. Первые наручные часы появятся у нее через двадцать пять лет: дорого.
За опоздания штрафовали — или орали так грубо и зло, что не хочешь, а заплачешь. Но хотя бы уже не расстреливали, как в войну! — а сын в яслях цеплялся, плакал, а нянька — ну, овчарка, овчарка! — с силой дернула его за ручку, и душа болела, а что делать.
Бабушка бежала сквозь февральскую метель мимо черных тополей, мимо тусклых окон. Пятьдесят пять лет спустя, уже страдая от деменции и забывая наши лица и имена, она все возвращалась и возвращалась на этот маршрут. Говорила: скучно, может, встречу кого из своих. И ходила между постаревших пятиэтажек.
А тогда она торопилась. В пуховом платке, в валенках. С непобедимой пульсирующей мигренью. Перебегала улицу, завизжал трамвай, вагоновожатая с досадой закричала: дура, разинь глаза! И у бабушки мерзли пальцы, которыми она придерживала у горла платок.
И тут из какой-то другой жизни выступил человек в шинели и сказал:
— Валя. Валя. Вы, пожалуйста, не бойтесь. Я спрашивал о вас у знакомых. Вы мне очень нравитесь. Выходите за меня замуж. Я вдовец, одинокий. Я буду вас на руках носить и вашего мальчика приму как своего.
Бабушка задохнулась, превратилась в оглушительно стучащее сердце — и убежала. Ничего не ответила, стыдно: она замужем, а это чужой мужик, хоть и приличный, хоть и военный.
Какое-то время он ждал бабушку возле проходной. Спрашивал заводских баб и девок, где Валя. Просил передать, что он хороший человек, трезвый. Нет, она не вышла, не поговорила, не решилась.
Потом уже бабушка, осмысливая прошлое, сказала: а, может, и надо было уйти, а я, дура, испугалась.
Мне (тоже двадцатипятилетней, тоже дуре) стало обидно. Неужели я — родившаяся от второго ее сына — не стоила несбывшегося? Того, где она — жена фронтовика, Валя, Валечка, иди ко мне, родная, где нет смен по двенадцать часов, но есть белоголовые с чубчиками ребятишки, которым она шьет костюмчики не ночами, а днем, разложив любовно выкройки на столе у огромного окна.
А на стене — ходики с гирями в виде шишек, но время больше не враг, время — мёд и молоко, и вечерами, когда мальчики засыпают, он снимает со стены гитару и, улыбаясь, поет:
Сыплет, сыплет небо порошею
На цветы, на зарю.
Помни, Валя, только хорошее,
Я тебе говорю.
И отогревшейся пополневшей Валечке кажется, что заводские утра, барак с общей уборной, тычки моего деда и его пьяный нахрап приснились ей в каком-то далеком чугунном сне, от которого потом ужасно болела голова.