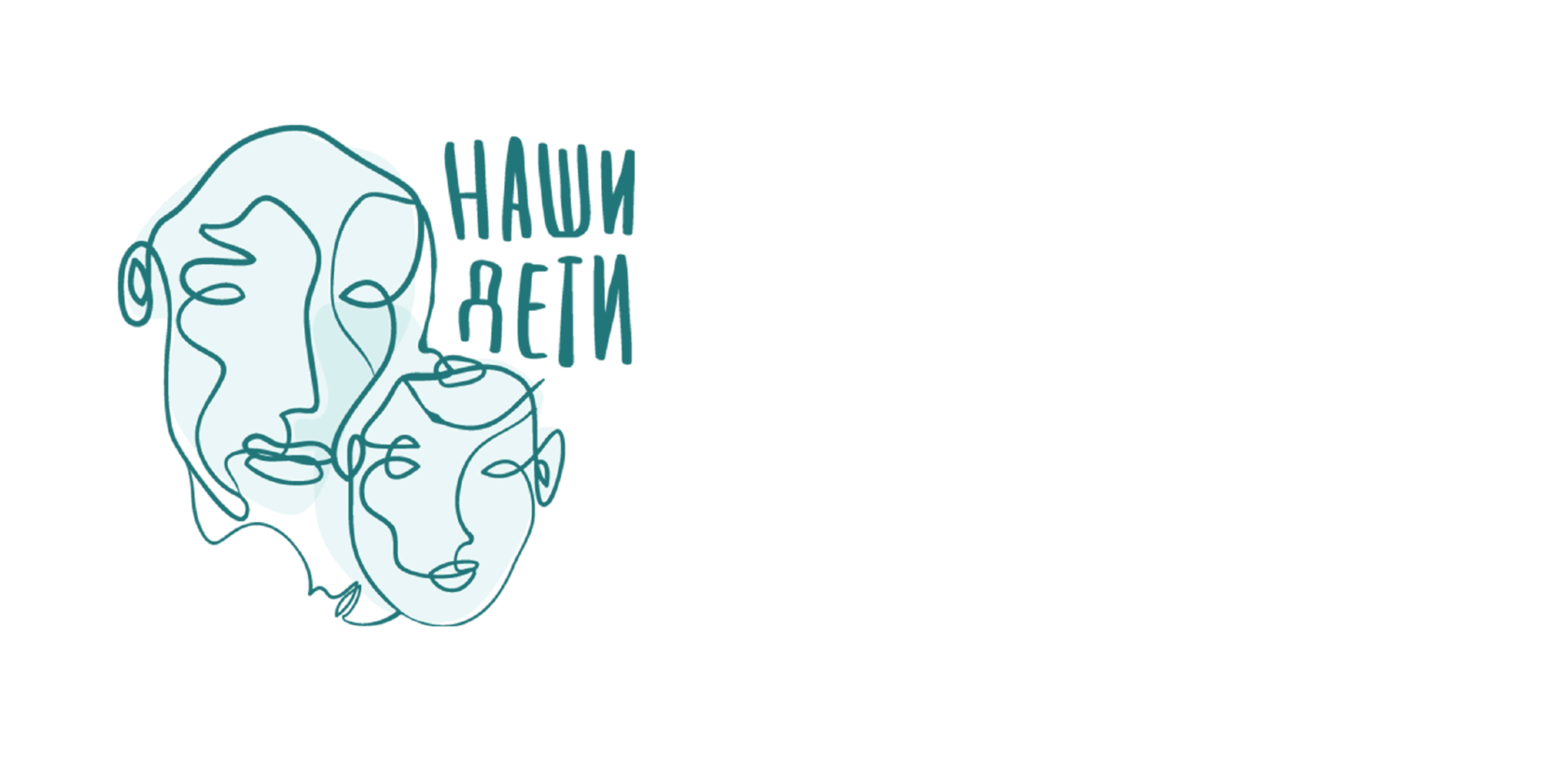Автор: , «Наверно я дурак: антропологический роман«. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
ФОТОГРАФИЯ:
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вам отрывок из романа Анны Клепиковой «Наверно я дурак«. Действие романа происходит в доме-интернате для детей с нарушениями развития. Он основан на реальных событиях и рассказывает о жизни в таких интернатах, об отношениях волонтеров с санитарками, врачами, об их работе, взаимоотношениях с детьми. Здесь можно прочитать подробную рецензию и узнать о романе побольше.
В группе непривычная тишина, все дети сидят по кроватям и не двигаются. Сегодня мне предстоит впервые встретиться еще с одной Инной Сергеевной — Инной Сергеевной Старшей, или Страшной, или Бабой-ягой, как ее иногда между собой называли волонтеры. Вряд ли она была сильно старше Инны Сергеевны Младшей, но выглядела действительно страшновато: большая, лохматая, горбоносая, с бородавками, бородой и без нескольких зубов. У нее был низкий прокуренный голос и длинные седые букли. Иногда она носила две пары очков одновременно. Порой мне даже казалось, что у нее на шее наверчены бесчисленные платки и тряпочки, как у старухи-процентщицы.
Почти сразу же она начала орать на меня, обращаясь на «вы» и не иначе как «девушка»: «Вечно оставят бардак. Коляски мы за вас будем убирать? Развелось народу. Координаторы — они вообще зачем? Пусть тогда работают вместо санитарок! Вы нам помогать даны или мешать? Вот уроды!» Уроды — это мы, волонтеры и педагоги.
Когда приходит Тоня, она возмущается еще больше: «А ты что пришла?» «Я пришла рассказать про детей, скоро уйду», — отвечает Тоня. «А что про них рассказывать-то?»
Инна Сергеевна почти ничего не давала мне делать. Я сажала детей в коляски и стульчики, уходила в игровую, а когда приходила, они были снова в кроватях. Уточкин при ней лежал все время. Перечить ей было невозможно, отстоять право Уточкина в ее дежурство сползти с кровати не удавалось ни мне, ни кому-либо из педагогов. Их стычки с ней всегда заканчивались ее победой: они ретировались. Некоторых Инна Сергеевна умудрялась довести до слез. Иногда бывало так, что она уже почти разрешала взять ребенка из группы, но в этот момент в группу обязательно кто-нибудь заходил — воспитатель, медсестра или сестра-хозяйка, и тогда она начинала громко и напоказ обвинять волонтеров во всех смертных грехах, а ребенок оставался в группе. Педагог Кристина не смогла выносить эти систематические демонстрации лояльности перед лицом вышестоящих и отказалась работать в дни дежурства Инны Сергеевны.
Многие дети из-за особенностей развития страдают недержанием, другие запорами — как по психологическим причинам, так и вследствие нарушения обменных процессов, спазмирования мышц (при ДЦП), недостатка движения, нехватки жидкости и просто потому, что их не приучали к горшку. Вне интерната, например, когда дети выезжали в лагерь, эти проблемы решались сами собой. Волонтеры мечтали «снять детей со свечек», высаживали их на горшки, тайком кормили черносливом и поили кефиром. Иногда им удавалось даже в условиях интерната добиваться результатов.
Но санитарки строго придерживаются правила ставить свечки. Инна Сергеевна сует мне какой-то скомканный обрывок газетной бумаги и просит зачитать накарябанные на нем фамилии. Сама она плохо видит без очков. Уточкин, Филя, Леша и Рома. «Так, снимай с колясок, я сейчас буду свечки ставить», — говорит она.
Инна Сергеевна Старшая переодевает детям памперсы и ставит слабительные свечи ровно в одиннадцать часов, хотя по расписанию это полагалось делать после обеда. Она уже с утра не разрешает брать из группы или сажать тех детей, которым в этот день по «графику стула» предназначалась свечка. Препираться с Инной Сергеевной было бесполезно, но мне удалось с ней договориться, что я буду к одиннадцати специально возвращаться с детьми из игровой или с прогулки, чтобы самой положить детей, сидящих в колясках, и она могла бы всех переодеть.
В дни дежурства Инны Сергеевны я старалась соблюдать порядок, не брать детскую одежду без спросу, не двигать двери шкафа, ровно расставлять коляски и так далее. Она, правда, все равно продолжала называть меня «девушка» и на «вы», ругаться и всячески клеймить волонтеров. Ко всему прочему она была еще и глуховата и, к счастью, не слышала половины моих возражений. Может быть, ее тугоухость была причиной того, что она всегда на кого-то кричала.
«У Утки спина в каких-то прыщах, как исхлестана. Кто его хлестал? Волонтеры или кто? На траве валялся? Накануне моего дежурства, говорят, его гулять водили волонтеры. Волонтеры виноваты, а потом санитарок обвиняют, а нам отчитываться!» У Уточкина на спине действительно какие-то царапины — его мог поцарапать кто-то из детей. Санитаркам на любую детскую травму, если ее обнаружит медперсонал при осмотре, приходится писать объяснительную, и с их точки зрения волонтерские занятия только повышают опасность травм. Случалось, что волонтер ронял ребенка, осуществив неудачный маневр с коляской, например, но нарочно хлестать ребенка по спине? Трудно сказать, действительно ли Инна Сергеевна считала, что волонтеры были такими зверьми, чтобы сознательно наносить ребенку травмы. Но при любом удобном случае она пыталась унизить представителей чуждого сообщества и снять ответственность со своего.
Порой небольшие травмы у детей возникали случайно: упал со стула, подрался. Углядеть за всем происходящим в такой активной группе, как моя, да еще и одному человеку, нелегко. Иногда виновными признавали детей, но правда это или нет, узнать было трудно. «У детей синяки, это Савва, а попадает санитарке», — говорит воспитательница.
Но за следами на теле могла стоять и вина персонала. Так, Серафима рассказывала, что у нескольких девочек в ее группе — Алены, Зои, Фаины — регулярно обнаруживаются синяки или фингал под глазом. Серафима даже присылала мне фотографии избитой Зои: пятилетний ребенок с синдромом Дауна с заплывшим сине-фиолетовым глазом. Одну из санитарок, Зинаиду, в ее группе эти девочки крайне раздражали, и она периодически срывалась на них, когда была не совсем трезва. По словам Серафимы, «Зина не выносит детский крик, и когда дети кричат — видно, как на ее лице ходит каждый мускул». После этого в объяснительной санитарка писала, что дети упали со стула или ударились о борт кровати. Не знаю, насколько убедительно выглядели эти пояснения для вышестоящего персонала, но известно, что Зинаиду периодически лишали части зарплаты.
Однажды санитарка сильно избила Фаину. Об этом рассказала Серафиме Женя, одна из подопечных из той же группы. По словам Жени, Зинаида намотала на руку пеленку и двинула Фаине в лицо, а потом привязала ее пеленкой к кровати. Женя просила Серафиму никому об этом не рассказывать, потому что санитарка пригрозила побить и ее, если кто-то узнает. Но Серафима все же передала этот рассказ ответственной медсестре их группы Веронике Степановне. «Как можно верить больному человеку», — имея в виду Женю, сказала Вероника Степановна. Но тем не менее, санитарку вызвали к директору.
В моей группе никогда не случалось ничего подобного. Тряхнуть или шлепнуть ребенка могли, и даже вполне открыто, на виду у волонтеров, тем самым давая понять, что в этом нет ничего зазорного. Но следов побоев я никогда не обнаруживала. Виталик как-то обмолвился мне, что одна из санитарок бьет детей и за это он ее не любит. Но это было в самом начале моей работы, и я не запомнила, кого именно он упомянул, и не была уверена, что могу ему верить (ведь он действительно был фантазером). К тому же никаких подробностей я не выспросила. В любом случае, поскольку половина детей в моей группе говорили и обладали хорошим интеллектом, они могли бы все рассказать волонтерам, другой санитарке, врачу, медсестре или воспитательнице. Так что, даже если у кого-то и возникало побуждение ударить ребенка, это было дополнительным сдерживающим фактором.
Инна Сергеевна Старшая ревностно относилась к своим обязанностям, четко знала их границы и соблюдала зоны собственной ответственности: «Это моя работа, зачем вы лезете делать мою работу!» Но через несколько месяцев она стала позволять мне участвовать в «ее работе» на правах ее помощника — разрешала мне менять памперсы, самой подбирать одежду и даже участвовать в раздаче пищи. Скорее всего, санитаркам действительно сложно было понять, что благотворительная организация дает волонтеров не в помощь им, санитаркам, в их нелегком труде, а для того, чтобы развлекать детей. Ведь дети, по мнению многих санитарок, в этом не нуждались.
Я боялась Инну Сергеевну Старшую. Она заставляла меня чувствовать себя никчемной, ненужной и даже вредной. Дети тоже ее боялись, и в ее дежурство даже не пробовали шуметь, хулиганить или сползать с кровати без ее разрешения. Боялись ее даже воспитательницы. Их главной целью в ее дежурство было не допустить того, чтобы она раскричалась — важно поддерживать обычный нормальный порядок вещей, избегать скандалов и лишних нервов. Поэтому они подстраивались под ее суровый нрав.
Интересно, думала я, как Инна Сергеевна Старшая завоевала такую беспрекословную власть над детьми? Воплями? Но кричали на детей и другие санитарки, и никто из них, тем не менее, не добивался идеального соблюдения дисциплины. Воспитательницы говорили, отмечая положительные стороны Инны Сергеевны, что она детей не бьет — вообще говоря, это означало, что какие-то другие санитарки бьют. В какой-то момент я подумала, что дети действительно за что-то уважали Инну Сергеевну и ее власть над ними была основана не исключительно на страхе. При всей своей гневливости она была какая-то честная и предсказуемая, и в этом смысле детям с ней было проще — они знали, чего от нее можно ожидать. Орала она не только на детей и на меня, но и на воспитательниц, медсестер и врачей. «Она у нас со странностями — даже на меня орет», — говорила о ней Инна Сергеевна Младшая. Точно так же, как волонтерам и их порядкам, она противилась не устраивавшим ее нововведениям со стороны администрации учреждения.
Инна Сергеевна Старшая ответственно подходила к питанию: кормила детей довольно медленно и аккуратно. Детям, которые были способны однозначно дать ей обратную связь, она предлагала выбор в еде и спрашивала, не хотят ли добавки. Она была особо привязана к Филе, а наличие такой привязанности означало для волонтеров человеческое, неравнодушное отношение к работе. «Филя-Филя, простофиля», — приговаривала она ласково, когда кормила или переодевала его. После ее смены дети всегда переодетые, чистые. Я не знаю, в какой степени это забота о детях, а в какой — стремление формально и тщательно выполнять свои обязанности, чтобы придраться было невозможно. Но Инна Сергеевна любила подчеркивать, что она и другие санитарки относятся к работе неформально. Она называла это «добрая воля»: например, добрая воля — это тереть свежие фрукты и давать их нежующим детям, которым формально полагался пакетированный сок. Что удивительно, Инна Сергеевна вообще симпатизировала более слабым детям — Филе, Степе, Леше — тем, кто не говорил, Тише с его истериками. И всем поровну терла яблоки.
Однажды Инна Сергеевна прямо с утра поставила Леше свечку. Это был знак, что сегодня он никуда не пойдет и даже в коляску его не посадят, ведь, с точки зрения Инны Сергеевны, в такой ситуации надо было обязательно лежать, хотя эффект мог наступить через пару часов. Он начал плакать и кричать. Она начала орать, чтобы он успокоился, но при этом как-то сочувственно и не злобно. «Я буду вокруг тебя плясать, у меня еще тринадцать таких! — говорит она, стоя у его кровати, с какой-то заботой в голосе. — Хватит плакать. Подумай… — она запинается, действительно, о чем бы он мог думать? — …подумай о еде». Она жалеет его, но искренне убеждена, что ничего, кроме еды, ему не нужно, и ничего утешить не может, и ничего другого — ни похода в игровую, ни занятия с любимым педагогом Ярославом, ни прогулки или выезда — он ожидать не может. «Плохо видишь? Как же ты меня отличаешь, по голосу? Леша, ты меня видишь или слышишь? — продолжает она «плясать» возле него. — Я хочу его одеть, потому что мне кажется, что холодно». Для нее это больной ребенок, которому нужно есть, ходить в туалет, лежать и быть в тепле. В общем, болеть.
«Лежал тихо, хорошо. Посадили — теперь плачет», — говорила она, когда я сажала Лешу в коляску, а он начинал капризничать. А когда Леша в очередной раз страдал от интоксикации, то она явно беспокоилась о нем, не отходила надолго, заваривала чай. В один из таких дней мое отношение к ней поменялось. Впервые, пока мы ухаживали за Лешей, меняли одежду, относили в ванную для процедур, у меня, несмотря на то что она продолжала покрикивать на меня, возникло ощущение, что мы с ней делаем какое-то общее дело. Злая Баба-яга все больше приобретала черты волшебного помощника.
Она любила выпить, об этом говорил мне и Виталик, и другие санитарки, и воспитательницы. Чтобы промочить горло, они уединялись вместе с медсестрой Еленой Антоновной в ее кабинете. В рабочее время она, бывало, подолгу курила на балконе в торце коридора, рядом с группой. Выпивка и сигареты немного успокаивали ее нервы. А как-то раз я слышала, как она жаловалась кому-то из санитарок на своих детей: «Нарожали внуков, а мне с ними сидеть! Я их рожать не просила! Нужны мне эти внуки, не буду я с ними!» Видно было, что жизнь у нее непростая, и взамен ужаса она стала вызывать у меня сочувствие. Может быть, это был стокгольмский синдром.
Я обсуждала с другими волонтерами мое изменившееся отношение к Инне Сергеевне Старшей и даже начала морщиться, когда другие называли ее Бабой-ягой. Вика, Арина, Тоня подтвердили мои ощущения. Оказывается, с ними случалась сходная переоценка: те санитарки, которые изначально казались им «хорошими», в дальнейшем стали восприниматься как безразличные к детям. А с «плохими» в итоге удалось найти контакт. Они в действительности были более заботливыми и ответственными. Однажды Сене было плохо, и Тоне с Инной Сергеевной пришлось лечить его от отравления. В этот момент она призналась Тоне, что, мол, «вы все думаете, что я злая, а у меня просто жизнь такая», после чего Тоня взглянула на нее по-другому и их отношения пошли на лад.
Тоня рассказала мне, что один из волонтеров осмелился прямо ей в лицо высказать упрек («Как может такой жестокий человек прийти работать в детский дом!»), а Тонин друг, волонтер Максим, вообще откликался на ее вопли языком рабочей окраины, и она затихала. Но большинство из нас ее боялось.
Когда я прочитала в книге Маши Беркович про санитарку Н. Н., я даже в какой-то момент подумала, что это было написано про Инну Сергеевну. Но Маша писала про другую санитарку, из другого интерната, невероятно похожую на нее.
Первое, что я услышала от Н. Н.:
— Выйдите отсюда! Не видите, что вы мне мешаете? Когда закончу мыть пол, тогда и войдете!
Второе:
— Я его так кормить не буду! Сами посадили, сами и кормите!
Третье:
— Какая сволочь штаны на полку комом запихивает?
Поэтому первый вопрос, который я себе задала, был такой: как я буду работать с этой ужасной женщиной?
Недели через две Н. Н. перестала выгонять меня из группы. Правда, иногда швыряла в меня плохо сложенными штанами или футболкой. А что касается кормления ребенка в сидячем положении, то и тут прогресс был налицо: Н. Н. начала орать на Колю: «Опусти голову! Открой рот! Тебя сажают, чтобы ты ел, а не заглатывал!»
Следующий мой вопрос звучал так: что дети в ней нашли? (А они явно что-то нашли, радуются, когда видят Н. Н.) Она же постоянно на них орет! Причем так, что даже я вздрагиваю.
Впрочем, Н. Н. на всех орет. Орет на меня, на других нянечек, на старшую медсестру и даже на заведующую отделением. Уверена, она и на директора бы орала, если бы когда-нибудь с ним пересеклась.
И на своих собственных детей и внуков Н. Н. тоже орет. Она сама рассказывает.
<…>
Н. Н. напрочь лишена всякой двойственности. Она не со всеми разная, а в разное время с каждым:
— Леша, сволочь! Я для чего тебе чистую рубашку надела? Для того, чтобы ты рукава жевал?
А сегодня Леше нехорошо, он кашляет, и Н. Н. подолгу сидит возле него, хлопает по спине, чтобы откашлялся. Зовет врача, чтобы посмотрел Лешу. Я вижу, она волнуется.
Что касается крика, то причин для него у нянечек сколько угодно.
Можно орать от отвращения к работе, где за копейки выбиваешься из сил. От раздражения на всех детей в группе или на одного особо одаренного. Или, наконец, от чистой и вдохновенной ненависти ко всем и вся.
А Н. Н.?
Я терялась в догадках, пока не услышала разговор.
Старшая медсестра: Ты чего орешь? Тише!
Н.Н.: А я не ору! Я всегда так разговариваю! Голос у меня такой! И не надо мне указывать!
Когда Н. Н. мной довольна, чего почти не бывает, она обращается ко мне на «ты», а когда сердится — на «вы». Надо ли говорить, что она все время на меня орет? Но я не обижаюсь.
Наши дети для Н. Н. — такие же дети, как ее собственная внучка, которую можно отругать, можно шлепнуть по попе, но невозможно допустить, чтобы ей было по-настоящему плохо.
Меня Инна Сергеевна Старшая так ни разу за год не назвала по имени.