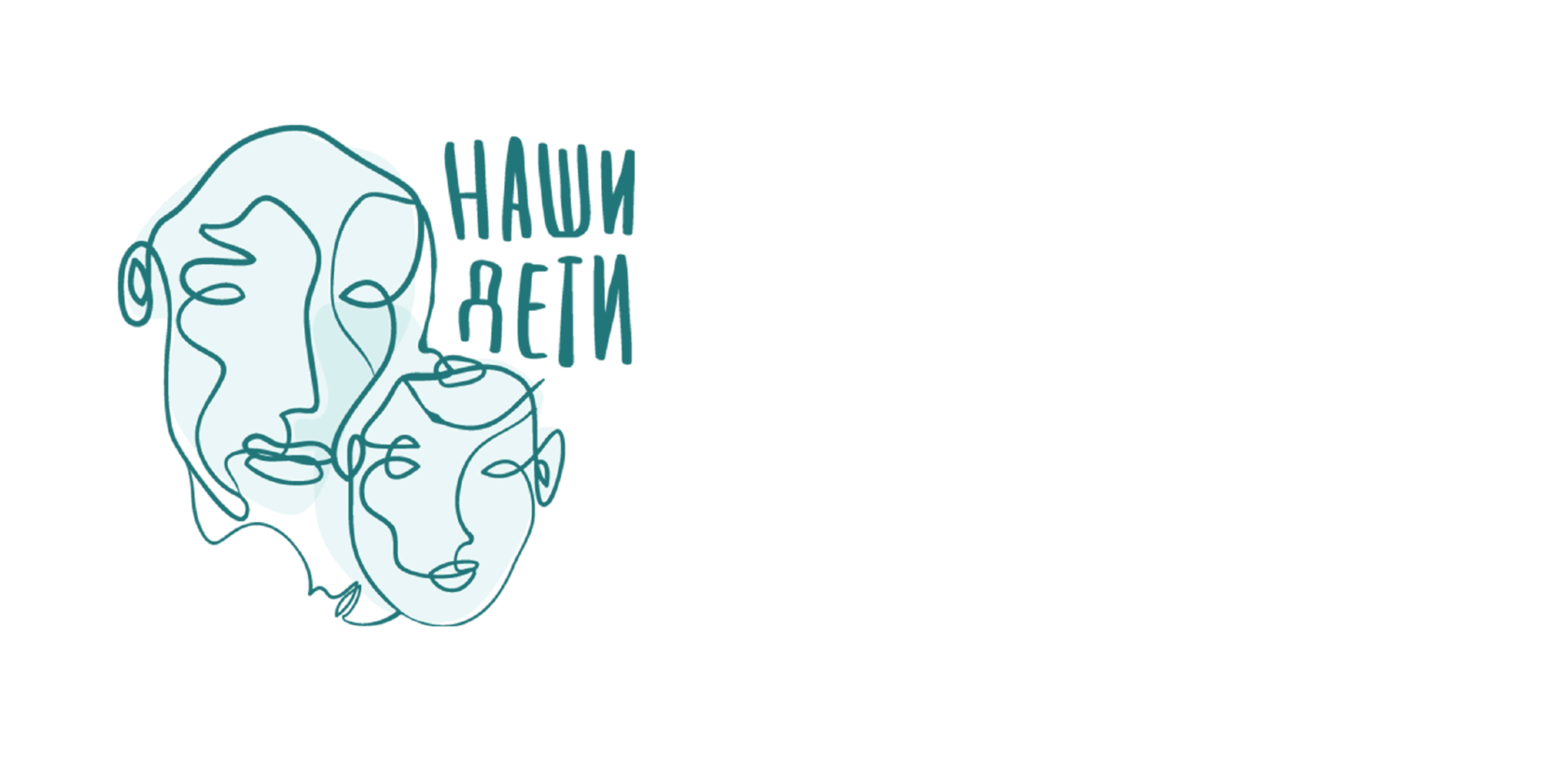АВТОР:
ФОТОГРАФИЯ:
Моим любимым сыновьям и
моему мудрому папе посвящается
В еще теплые вечера конца августа, когда уже все хулиганства испробованы, когда не слушаться взрослых уже не так заманчиво, я умудрилась схлопотать домашний, а точнее дворовой арест из-за того, что вернулась с речки не к полудню, а настолько поздно, что посуда, перемытая после обеда, была уже протерта и расставлена на полки (моя прямая обязанность), и это, учитывая, сколь долго наша большая семья умела просиживать за столом.
Но разве может унывать ребенок 12-ти лет, который родился не просто с шилом в одном месте, точнее будет выразиться, с буром, что используют при исследовательских работах нефтяники в поисках «черного золота».
Родителям своим я стала сочувствовать глубоко за 30, обзаведясь своими чудесными сыновьями и наблюдая за их менее феерическими выходками.
То лето было вторым по счету, когда вся семья собиралась скопом, съезжаясь с широких просторов нашей необъятной, помогая своими силами дедушке строить новый дом в деревне в подмогу старому, состоящему всего из двух комнат и основанному в первые годы еще прошлого столетия, уже давно не вмещавшему всю приезжающую родню. Хотя для меня было лучше, когда мне не доставалось места на высоких кроватях с необъятными перьевыми подушками, на которых спишь практически полусидя. Потому что тогда меня вместе с бабулей переселяли в отдельно стоящий большой сарай, служивший сеновалом. И это было счастье!
Можно было не гонять перед сном комаров — они видимо были не совместимы с густым духом сухого разнотравья, и можно было долго спать, ведь бабуля, сберегая мой сон, уходила рано готовить завтрак, а будить гомоном и топотом меня было некому. Этот сарай становился моим личным царством. И я могла продлевать свои валяния, наблюдая за танцем пылинок в утренних лучах солнца, лезвиями разрезающих тьму сеновала, гонять их своим царственным дыханием.
Взрослые возводили дальнюю от ворот стену дома, подняв ее так, что с моего роста были видны только их головы и плечи. И так как выходить за забор мне было не велено, я пригласила друзей, пришедших под калитку звать меня во двор. Этого же мне не запретили. Мы какое-то время сидели под старой акацией, болтали о новом трамплине, который соорудили старшие на реке, сожалели, что так поздно, только к концу лета, ведь еще неделя — и часть нашей деревенской ватаги разъедется по домам — грызть непосильно крепкий гранит науки.
Потом кто-то из старших (тогда 3 года разницы казались мне десятком лет) ребят предложил играть в «бутылочку», девчонки, нервно хихикая и жеманничая, отказались, я сурово пригрозила кулаком, озираясь в сторону родни. Смелость — главное качество юности, когда ни о чем не задумываясь, прыгаешь поступком или словом в обрыв, и, когда, независимо ни от чего, всегда встречаешь встречный поток, выносящий тебя наверх, если ни с удачей так с опытом.
Становилось неинтересно, компания грозилась разбежаться гулять по одной из двух улиц села. Вот тогда я и предложила пожарить на костре колбасы. Ведь игры с огнем щекочут своей запретностью так же, как «бутылочка». На этом и порешили.
Сбегав для вида в старый дом за ковшом — воды попить ребятам, я притащила коробок спичек, для полной конспирации плотно зажав его подмышкой.
Вторая ходка состоялась за упитанным кольцом домашней колбасы и ножом. Дедушка с папой и дядями, погруженные в строительные вопросы, думаю, меня даже не заметили. Бабушка только вернулась с вечерним молоком и ушла на сенокос, мама была занята с младшим моим братом, которого, по ее мнению, надо было кормить строго по часам. Мы оперативно, со знанием дела, сложили импровизированный мангал из опрометчиво оставленных силикатных кирпичей, скоро насобирали сухих сучьев и пожухлой травы, и мне, как хозяйке и держательнице спичек, позволили развести огонь.
С третьей или четвертой спички сухая трава пыхнула и дала жару загореться деревяшкам. Сушки несчастно дымили густым белым дымом, на что мы, поочередно попадавшие в его клубы по велению вечернего ветерка, крутили дули, отставляя кукиш от себя, и напевали извечно детское «куда дуля — туда дым» (порой и сейчас пользуюсь этим заклинанием, и вера, заложенная детством, заставляет его работать). О том, чтобы жарить совсем по-взрослому на шампурах речи и не шло, их бы я точно незаметно не пронесла, поэтому решили нанизывать ломти колбасы, нарезаемые тут же на кирпичах, на веточки сирени, которую резво начали калечить, не отходя от очага, потому как росла она аккурат за акацией. Но жирная колбаса проворачивалась на них, прогорала коптившим на языках огня жиром и так и норовила соскочить шкварчать в редкие угли.
Наконец, скорее по запаху, нежели по дымку, папа понял, что запахло жареным. Он, как всегда скупо, в двух словах, изложил опасность игр с огнем, вероятность ожогов и просил не жечь. Но порой моя вредность переходила в заунывное выклянчивание, и тогда я становилась просто натуральным насильником родительского мозга, которому легче дать, чем отказать, все одно достанет.
Папа отмахнулся, но истребовал принести к костру ведро воды, что я незамедлительно сделала, метнувшись диким койотом. Отец пожал одним плечом и нырнул вниз за свежей порцией раствора, чтобы класть камень.
Осмелев, я забралась в холодильник на летней кухне, приволокла еще кольцо колбасы и почему-то огурцы. Выбегая уже, увидела у двери алюминиевую пластину, размером чуть больше альбомного листа, и тут мою голову с дружеским визитом посетила умная мысль: вот оно, спасение от дающих горечь готовящейся колбасе веток сирени! Прихватила железяку с собой. С видом заправского повара, растолкав друзей, плечом к плечу стоящих у костра, водрузила пластинку на кирпичи — идеально для жарки свежей домашней колбасы. Ребята произвели похвальный хмык и тут же скинули со своих импровизированных шампуров кружочки полусырой снеди. К ним мы добавили вторую порцию и доставленные мной огурцы, предварительно откусив им горькие попки и смачно, по-взрослому, сплюнув.
Жарили и, натыкая на веточки, которые теперь служили нам верой и правдой вместо вилок, жадно поглощали. Все случилось идеально: колбаса доедена, огурцы сброшены по невкусности под тот самый куст сирени, а костер прогорел и едва заметно дымился. Оставалось прибрать, залить еще горячую золу водой и начинать кутаться от комаров — вечер удался на славу, вечно голодная сельская шантрапа сыта, я рада, что не нарушила запрета и здоровски провела время.
Кто-то из ребят столкнул носком кеда пластинку, она свалилась на землю, я принялась ходить вокруг нашего мангала и по-взрослому расковыривала веткой последние уголечки. И тут произошло самое значимое событие вечера: я наступила большим пальцем по-деревенски безнадежно босой правой ноги (а кто в деревне по двору в обуви носится?) на ту самую, все еще раскаленную пластину!!!
Кричать нельзя — предупреждали ведь. Тут телеграммой «молния» мелькнула еще одна, не менее гениальная мысль моего, видимо, не совсем развитого разума. Без единой тени сомнения, дабы оторвать припекшийся палец, я наступила всей стопой левой ноги на нашу импровизированную жарящую поверхность.
Что произошло дальше, могу только догадываться, потому что в глазах от боли потемнело, а вот физиономией побелела знатно, скорее всего. Потому что папа, повернувшийся на свежий запах жаренного мяса, увидел мое луноподобное цветом лицо с ошарашенными и выпученными глазами и заподозрил неладное.
— Эй, шашлычники, что у вас там происходит? Огонь потух? Водой пепел залили? — спросил он своим как всегда уравновешенным голосом.
Мы стадно заблеяли в ответ что-то невразумительное. Я же, прийдя в себя, мигом привалила железяку первым подобранным камнем (хоть одна трезвая мысль, хотя тогда я вовсе еще не имела чести знать в лицо алкоголь), оторвала свою ступню от злосчастной пластины, с проглоченным стоном погрузила ногу в «пожарное» ведро и затрясла ею, отвлекая боль. Только отца провести не удалось. Я почувствовала, как по позвоночнику под тонким летним платьем покатилась капелька пота, то ли от напряженной тряски ступней, то ли от страха надвигающегося наказания.
Наконец папина фигура вынырнула из-за угла полудома. Он мигом, одним взглядом считал ситуацию: мой плохо спрятанный испуг в глазах, ногу в ведре и алюминиевую пластинку с запеченным дактилоскопическим отпечатком ступни. Вся деревенская банда мигом вспомнила о делах, чуть ли не штурмом, взяла калитку нашего двора, за границей которого рассыпалась горохом в разные стороны. Я осталась один на один с неминуемо наступающим коллапсом. Время замерло. Папа приближался. Я, не моргая, смотрела на него, перебирая все варианты, какими меня можно было казнить за непослушание. У меня даже уши заложило, как в самолёте при взлёте.
А потом все произошло молниеносно быстро. Папа подошёл, ловко подхватил меня на руки и понёс в старый дом. И вот как только я почувствовала, что моя ступня уже не в воде, у меня прорезался голос-сирена. Наверное, все две улицы нашей деревни и ещё лес и река, и посёлок за рекой, и дачи за лесом в этот миг познали, что такое заарканенное чудище Лохнесского озера, что такое загарпуненный Моби Дик — я орала так, что у самой звенело в пустой голове. На мой вопль сбежалась вся наша семья. Даже бабуля с дальнего у реки сенокоса с серпом наперевес. Только отец ухом не повёл, носа не наморщил. Он спокойно внес меня в дом, усадил на маленький стульчик, подставил под ноги небольшой тазик и вылил в него все 3 литра свежайшего вечернего молока, ещё тёплого.
— Сиди спокойно и не вынимай ногу, — сказал он и вышел в сени.
Я по инерции продолжала судорожно трясти конечностью. Больно было — жуть. Мыслями я перенеслась к Жанне д’Арк и всем остальным сожженным, пытаемым каленым железом и пострадавшим от несовместимых с жизнью температур. Набежала женская часть нашего семейства, кудахча, охая, сострадающе прижимая руки поочерёдно то к груди, то к щекам, не забывая при этом открывать рот, как у Мунка в «Крике» (это я знаю, потому как перед каникулами в художке занимались плагиатом в технике гуаши). И вот эти самые причитания были наиболее утомительными. После того, как посочувствовали и посострадали мне вдоволь, настало время поучений и упрёков, нотаций и объяснений, что такое «кара божья». Я тяжело вздыхала, для приличия постанывала и упорно продолжала взбивать молоко в тазу. Сколько продолжалась эта пытка нравоучениями и перечислением того, как я теперь наказана и чего лишена, сказать не могу. Но в какой-то момент поняла, что больше чувствую онемение в ноге, чем боль от ожога. И тут вошёл папа, неся в своей крупной натруженной руке маленький коричневый аптечный пузырёк и бинт, и полотенце, перекинутое через плечо.
— О, да ты — сепаратор! — сказал он, указывая в таз. И тут я увидела, что к стенкам таза жмутся небольшие, около сантиметра в диаметре, бледно желтые комочки.
— Что это? — я заинтересованно взглянула на отца.
— Это почти масло, — ответил мне он. Присел рядом со мной на корточки, разогнав гомонящих маму и бабушку, аккуратно достал мою ногу из молока. Я уж было собралась снова поднять вой, но папа начал своим обычным тихим голосом, спокойно рассказывать, как взбивают на маслобойнях масло, а сам, тем временем, мягко вытер мою стопу, положил её себе на колено, пропитал ярко-оранжевым, как морковь, облепиховым маслом бинт. Потом приложил компресс к месту ожога, прикрыл пакетом и перебинтовал мою ногу. Снова поднял меня на руки и перенёс на кровать. Подбил подушки, одну большую положил под ногу, укрыл меня и, отогнав ругающуюся маму и почти плачущую бабулю, снова вышел.
Как заснула, я не помню, словно провалилась, потому что помню, как проснулась от того, что нестерпимо жарко. Посмотрев на часы, удивилась: пол двенадцатого! Так долго я никогда не спала летом. А дальше все было просто и легко, как всегда в детстве. До обеда я лихо хромала, подволакивая ногу. После обеда — начала ходить, будто ничего и не произошло. К вечеру же с таким энтузиазмом гоняла пришедших мне посочувствовать сельских сотоварищей, обзывавших меня, видимо от большой дружеской любви, паленой калекой, что они едва успевали от меня улепётывать.
А потом был долгий семейный ужин с варёной молодой картошкой, щедро присыпанной мелко рубленным укропом, и золотистыми шкварками, сахарные розовые помидоры и деревенский самогон (только для взрослых!). Скоро сверчки завели свои вечерние песни. За ними налетела невидимая комариная авиация и заставила наскоро убирать со стола. А я, а что я? Я помогала даже с большим усердием, чем обычно. Когда все уже разошлись, и за столом остались только трое: дедуля, папа и остатки мутного первака в бутылке под углом яркого света от лампы в газетном абажуре, подвешенной на крючок из проволоки под навесом, я поняла, что-то очень, ну прямо очень-приочень важное в своей маленькой хулиганистой жизни, подбежала к отцу и крепко-крепко, сколько было сил в моих руках, обняла его за шею. Так сильно, что самой стало почти невозможно дышать. А может это и не от этого, а от того осознания, которое распирало меня изнутри, осознания, что мой папа ТАКОЙ! Тихо, спокойно, без упрёка, без нотаций, без наказаний, без прочей лирики и соплей просто взял меня бедовую на руки и понёс, и помог, и полечил, и вылечил.
— Спасибо, пааап, — едва слышно выдохнула я ему куда-то почти в затылок.
— За что? — все так же тихо, как и всегда, спросил он, — все хорошо. Иди спать, — и похлопал меня легонько по спине. И я ушла. Оглянулась уже на пороге дома, а он, как ни в чем не бывало, обсуждал с дедушкой стройку. А потом я заснула. Но, ещё когда веки не совсем отяжелели, в мою шумную голову на цыпочках закралась уверенная мысль: мой папа — мой герой! Навсегда.
Прошло почти тридцать лет, а герой у меня все тот же. Потому что я остаюсь все той же, со своими приключениями, происшествиями и чрезвычайными ситуациями. Люди меняются. Герои остаются. И это чудесно.