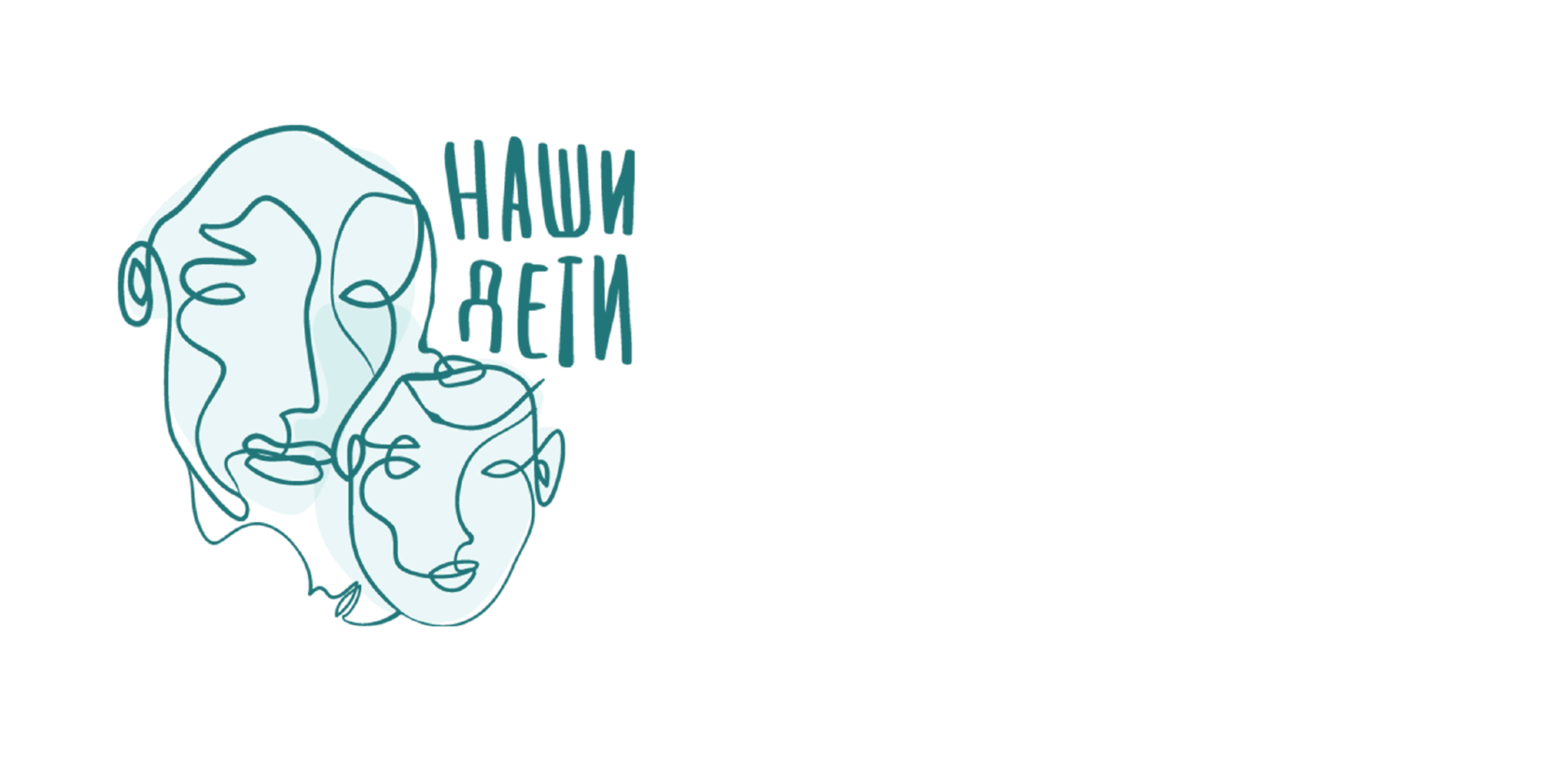В ту зиму Олю отправили в поселок к баб Стеше. Мама сдавала ГОСы, а Шуре (отчиму) никогда не было до нее. Девочка «путалась под ногами», «вынуждала хлопотать», «отвлекала в такой сложный период». Мамина тетка сама запросила Олю к себе, в большой дом с высоким крыльцом и узорными занавесочками на веранде. Оле там очень нравилось – много места, теплая печка, круглые вязаные половички-улиточки. Баб Стеша готовила с утра большие пузырчатые блины, в которые торжественно кидался квадратик масла: блинчики Оля сворачивала в трубочку и посыпала сахаром. Дома так не дают никогда!
Девочку устроили в садик на полдня, чтобы с детками общалась. В садик Оле ходить нравилось. Именно ходить. Пока идешь в самый центр поселка, по дороге чего только не видишь – магазинчики, столовая, грозное общежитие из бордового унылого кирпича, баня с мозаичными окнами, скверик, в котором со всем провинциальным торжеством стоял дедушка Ленин. Оле в садике давали книжку «Искорка», веселую и теплую от приличной истрепанности. На первой странице там был черно-белый портрет Ленина: Ильич добро щурился юному читателю – казалось, что у него очень мягкая борода, и, скорее всего, полный карман конфет. Иногда Оля целовала портрет, пока никто не видел.
Но самое интересное было потом. Когда до бабстешиного дома оставалось еще полпесни про облака, начиналось волшебство. Бумажные домики в светившемся каким-то чудесным лиловым светом окошке. Вот он приближался: кирпичный дом с голубой крышей, где неизменно, каждый день в одном окошке горел свет. Баб Стеша говорила – лавандовый. И прямо там, за стеклом, нестройным рядом стояли бумажные домики: высокие и поменьше, с крышами и без. У домиков были резные ставни, крылечки в каких-то необычайных завитушках, а на некоторых балкончиках (да, там были и балкончики!) невыносимо убедительной мягкой шапкой лежал снег. В одном углу окна стоял фонарь, от которого и исходил лавандовый свет.
Оле виделся и серебристый, наискосок струящийся снег над домиками. Когда домики становились все виднее и виднее, у Оли в груди что-то подпрыгивало и ахало. Она замедляла шаг, а баб Стеша, кажется, и сама нарочно шла медленнее.
И так каждый вечер. Каждый-прекаждый. Оказывается, в этом доме жил какой-то Паша. Он работал в художественной школе, что казалось Оле гораздо более весомым, нежели замначпред (ну что-то такое) в торговле, как Шура. Шура не умел ничего – ни играть в фишки, ни читать ей про веселую кукушечку, ни чинить калейдоскоп. А какой-то Паша мастерил целый бумажный городок на окне – и ведь композиция менялась. Дополнялась новыми домиками, снеговичками в сказочном дворе, собачками на крылечке, луной из фольги, елочкой с серебристыми нитками мишуры.
Потом приехала мама, Олю перестали водить в сад. Она так страдала от того, что ее ежедневную встречу с мечтой отменили, что заболела. Болеть девочка любила, потому что ее не заставляли есть, давали много компота с сушками. Она лежала на высокой подушке, рассматривала книжки, играла с котом. Или, когда становилось лучше, усаживалась за бабстешин стол и высыпала на него пуговицы из большой шкатулки. А там уже свои рядочки, когда играешь только в тебе одной понятную игру. И если спросят, никогда в жизни не объяснишь, про что она.
На кухне мама ругалась. Не очень громко, но очень недовольным голосом.
— Я просила тебя водить ее другой дорогой! Ты как назло, вот честное слово!
— Ира… Ну что плохого? Ты бы видела, что он для нее сделал! Ой, глядеть не переглядеть! Там из бумаги целые домики, один такой, другой такой. С окошечками, с крылечками. И фонарь придумал, и свет из него такой… Как сирень на солнце…
— Стеша, что ты несешь? Ты себя слышишь? Я просила, как человека. Мне просто нужно было нормально сдать ГОСы, я тебя ничем не утруждала, а ты!
— Ирочка, ну что ты…
— Что Ирочка? Вот что Ирочка? Сейчас эти дурацкие домики, а потом что? Он в один прекрасный день подойдет к ней и скажет: «Оля, здравствуй, я твой папа».
— Пусть бы и так…
— Ты в своем уме? Вы уговорили меня ничего не делать. Я оставила ребенка, мне было 18 лет, напомню тебе. Вы сказали, что поможете, что я закончу институт.
— А мы не помогаем?
— Не в этом дело! Он узнал, что это его ребенок. И теперь вот домики, видите ли, строит. На окне. Как был идиотом романтичным, так и остался. Я его вычеркнула из жизни. Раз и навсегда. Это была глупая история, просто эмоции на выпускном, все.
— Зря ты ему не сказала…
— У меня семья. У меня Шура и Оля. Профессия. Интернатура. А чего бы я добилась с ним? Так и осталась бы в этой дыре?
— Сильно твой Шура девочку привечает…
— А это сугубо наше дело, Стеша. И нечего тут ее баловать. Пусть живет в реальном мире ребенок.
— Дура ты, Ирка.
— ?
— Ты девочку отца лишила. А его дочки лишила. Тебе нужен только твой Шура, кафедра, смены. Шура только о связях своих переживает, о том, чтобы услужить Петровичу и получить заказ от Иваныча. А тут ребенок и отец.
— Ну, Стеша, ну… Я могу вообще сюда не приезжать. Никогда!
Это был 1990-ый. Стояла нежная зима, длинная и уютная. Ее цвет, свет, температура, запах никогда не выпадали из сознания в подсознание Оли. Они оставались в нем с треском в печке, с приятным разбалтыванием в чае вишневого варенья, с потягушками рыжего в полоску кота. С чудесными бумажными домиками в окне какого-то Паши.
И если вы, как только наступит зима, не пройдете мимо витрины одного крупного столичного магазина, если вглядитесь в это застеколье, то увидите очень симпатичный дворик. Там горит лавандовым светом фонарь, совершенно непонятно откуда падает снег, и стоят друг за дружкой милейшие бумажные домики. Хотя бы взглядом захватите эту сказку, дайте ей потрепетать внутри. Это сделал не безликий дизайнер, не просто человек с модной профессией «декоратор», а девочка Оля. Правда, ей уже за 30, и обращаются к ней все чаще по отчеству, которое она умудрилась сменить в 16 лет.
И не зря все говорят – у Ольги Павловны витрины всегда волшебные.
Так и есть.