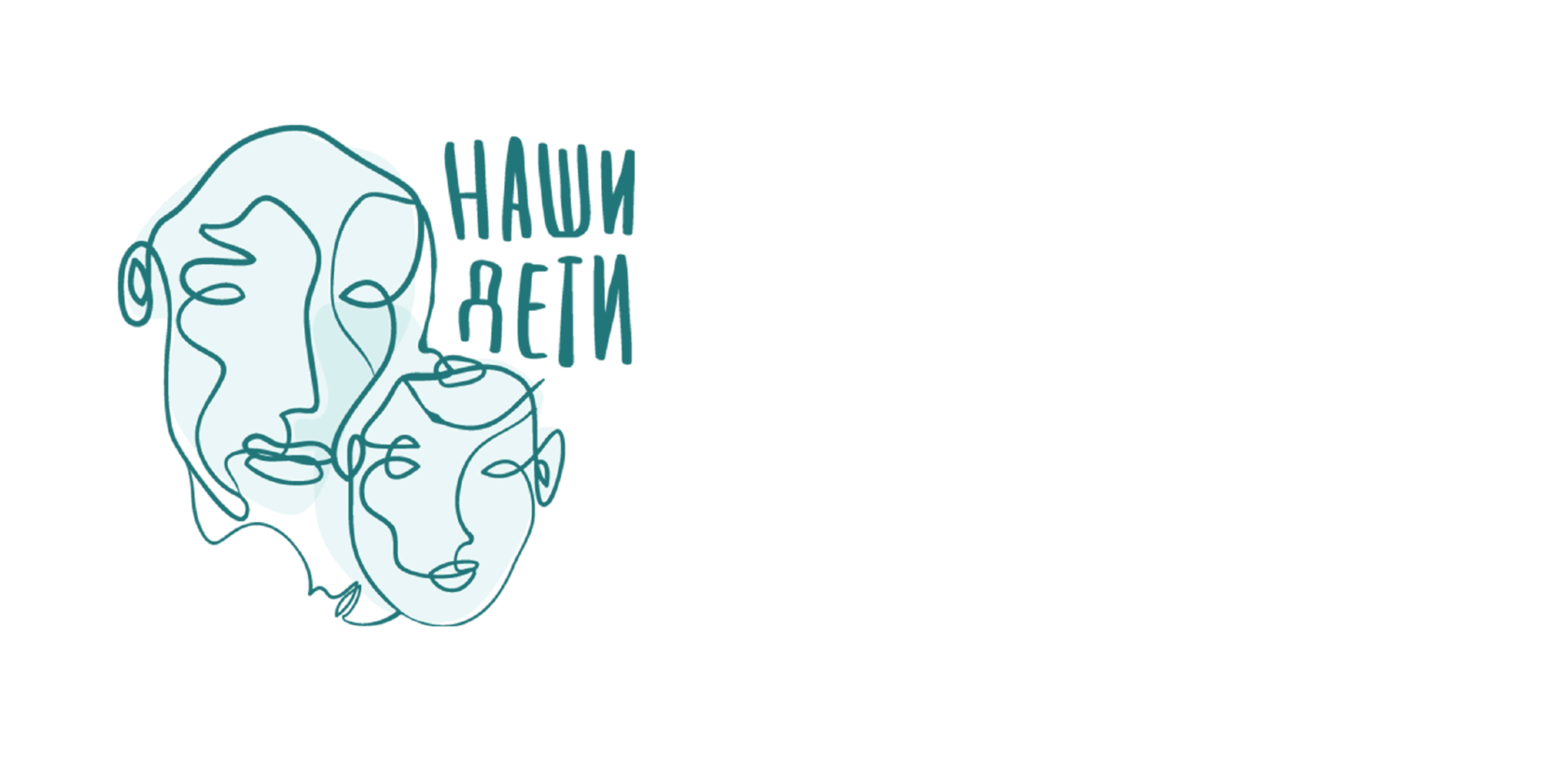Автор книги О том, что есть в Греции
Месяца китовраса нелепого дня сдавали мы экзамен по древнерусской литературе.
Странное было время. Зимы почему-то стали непривычно теплыми. Будто одной смены формации человеку было недостаточно, — поплыло разом все, словно у черепахи, держащей мир, начали разъезжаться ноги… Все обсуждали всемирное потепление; Петербургу опять обещали быть пусту, говорили, что лет через двадцать-тридцать наш город затопит водой с растаявших ледников. Многие верили.
Тогда мало у кого хватило духу оставаться в атеистах. По домам заходили свидетели Иеговы, регулярные и настойчивые, как пионеры, собиравшие когда-то макулатуру. На улицы вышли хмуро-бородатые мужчины в косоворотках и женщины в длинных юбках, закулеманные в платки; на Невском кружили хороводы улыбчивые, бледные от вегетарианства кришнаиты, — их нарядные оранжевые сари, надетые под куртки на рыбьем меху, вдрызг разлохматили грозные петербургские реагенты. Сайентисты прикупили симпатичный особнячок на Лиговке.
В магазинах появились соевые продукты, постный майонез и индийские специи. Вторая главная функция еды после насыщения — идеологическая. Наступило время творчества, доступного каждому. Дети зачинались либо по пестрой триоди, либо в пьянстве, либо в медитации, в зависимости от «верую» родителей.
Ледники и зарплаты таяли, о будущем можно было только гадать. Мы и гадали. Гексаграммы из китайской книги перемен болтали что-то неясно-оптимистическое.
Например, о том, что надо целеустремленно двигаться к своим вершинам. Гексаграмма номер 24, «Решимость».
Однокурсница Наташа Зубкова прошла собеседование на вакансию воспитателя в американском летнем лагере. Это считалось крупной, отборной, невероятной удачей. По масштабу событие можно было сравнить с полетом на другую планету. Для нас, что трансантлантика, что Луна — было в принципе одно и то же.
Мы всей группой стояли вокруг Наташи, а она рассказывала о своем пути к вершинам:
— Сначала, конечно, проверили английский. Потом надо было показать, умеешь ли ты фигачить поделки и организовывать коллективные игры. Со всем этим у меня был порядок, я ж из спецшколы, пионерка. Самое страшное — последний этап. Личный разговор с мужиком, который принимает решение. И он такой мне говорит: «А что вы делаете сегодня вечером?» Я такая краснею и отказываюсь, а сама, девчонки, не поверите, сама на автомате вспоминаю, какое на мне сегодня белье, ну, чисто машинально…
Изменился не только климат. Изменился язык. Мировая черепаха с размаху села на продольный шпагат.
На вывесках засияли неоновые новые слова. Вспоминали Петра, заразившего русское наречие колорадскими жуками заимствований. Лингвисты ломали копья, как правильно писать по-русски: «офис» или «оффис», и куда ударять в слове маркетинг. Пока профессора вымарывали из речи незваных-непрошеных лексических мигрантов, студентки-филологи получали фонетическое наслаждение, прелюбодействуя в киоске: «Мне один ЧУПА-ЧУПС, пожалуйста».
В темных университетских аудиториях зазвучали непривычно калорийные для академической постной среды выражения.
На семинаре по языковой личности какая-то студентка в монологическом аффекте выкрикнула:
— Что может знать поколение пожилых? У этих сорокалетних людей даже нет секса!
В дальнем углу аудитории сидела, закутавшись в серый пуховый платок, Ольга Ивановна, кандидат наук, преподававшая орфоэпию. Целомудренная и робкая, стеснявшаяся всего на свете, даже цветка «антуриум». Лицо у нее было маленькое, сухое, желтое, разъятое на мелкие морщинки, напоминавшее потрескавшуюся керамическую вазу; она тогда проходила курс химиотерапии. Услышав эти слова, Ольга Ивановна встрепенулась, встала со своей задней парты и заявила с непривычной для нее решимостью (гексаграмма номер 24!):
— Вы ошибаетесь, дорогая! Секс бывает даже у сорокалетних стариков…! И вы в этом очень скоро убедитесь…
Через год ее не стало; где-то в памяти до сих пор хранится ее голос и конспекты старых лекций: московское и петербургское произношение, булочная и булошная, дощь, тятр, верьх… Шоффэр, на Острова!
Мечта о гордом коммунистическом одиночестве срочно перековалась на мечту об интеграции с Европой. Наш факультет русского языка и литературы переименовали в факультет «русской филологии и культуры». Быть училкой было тогда немножко стыдно, то ли дело модный «менеджер». Или даже – «криэйтор», который, конечно, работает в «оффисе».
— Вы будете не учителями русского языка и литературы, а бакалаврами и магистрами по направлению «гуманитарные знания», — заманивал нас потратить юность на пост и молитву заросший бородой до глаз «яко зело философ хитр» доцент Тихонравов.
— Полгода изучать одно стихотворение! Вы только представьте! — искушал он, неотступчивый и хладнокровный, точно библейский змей. — Научитесь наконец читать. Многие ошибочно полагают, что они это делать умеют, но только поступив к нам, понимают, как они заблуждались!
Неуклюжее название специальности, в котором все слова торчали врастопырку, никого не смущало. Его неблагозвучие было облагорожено перспективой.
Любимый И-цзин учил: «Стоит сделать только шаг — и двери начнут распахиваться перед вами». Очевидно, пришла пора делать этот шаг.
Для того, чтобы бакалавриат и магистратура заработали, необходимо было раздробить монолит пятилетнего советского образования на паззлы болонской системы. Чиновники из министерства просвещения долго не думали: то, что раньше изучалось пять лет, впихнули в нынешние четыре. И очень просто! Ученые, между тем, поклялись не уступать бюрократам ни капли знаний. Произошла великая путаница. Помимо изменившегося напрочь строя, мира, языка, нам пришлось пережить изменения учебных планов и стать первыми филологами неокапиталистической эры.
Древнерусскую литературу нам поставили на первый курс, а древнерусский язык — на второй. Доцент Тихонравов, который вел у нас древнерусскую литературу, в миру был специалистом по творчеству Достоевского. И, как и его любимый автор, который одновременно создал князя Мышкина и «бесов», сочетал в себе крайности. Будучи гуманистом, он вошел в наше положение и убрал с зачета вопросы по теории. Оставил только самое, по его мнению, простое: назвать название и автора текста, если таковой имеется. Ему и в голову не приходило, что в этот момент он издевается над нами, как Свидригайлов над девочкой.
Дело было в том, что мы не понимали эти великолепные тексты. Шедевры древлей словесности. Совсем. Ни бум-бум. Там было, извините, не по-русски.
А древнерусский язык ждал нас на верхнем этаже, до которого еще надо было доползти.
Так началась наша мука.
Мы таращились в юсы большие и малые, в хожах и исхожах, чюжой коневий кал, письмо Грозного Грязному, сбивчивые откровения первогоэкумениста Афанасия Никитина, хоп с вами в раю пребыти и прочее.
И, как Сивка-бурка, чуяли беду неминучую на грядущем на зачете.
Древнерусскую литературу сдавали два потока, а книг «Памятники литературы Древней Руси» было, наверное, штук шесть. То есть: только читальный зал. Только Публичная библиотека. Только к открытию. При том, что в то время было легче было сгонять на бесе в Иерусалим,чем за книжкой на метро в Публичку.
Встать в 6, потолкаться в переполненном такими же, как ты, грешниками, в сере и духоте поезда. Выйти на Невский, где серое небо старательно плиссирует складки своей синтетической тоги, которую ветер вдруг раздувает парусом во все стороны, добежать до библиотечных колонн, нырнуть внутрь, выстоять очередь в гардероб, где работает милый юноша-инвалид с черными кудрями по лопатки. Гардеробщик долго курсирует сема-овамо с куртками, а сердце трясется от нетерпения, как похмельное.
Пулей на третий этаж, в наш зал, пульс двести, холодный пот, неповторимый десантный адреналин : успела? Не успела? Остались книги?
В 8-15 по Публичке уже бродили грустные, как сирые волци, филологи. Это были опоздавшие. Они высматривали однокурсников, сканировали взглядом стопки книг, просились следующими в очередь.
В библиотеке мы просиживали целыми днями. Денег не было, поэтому много курили, чтобы заглушить голод. Столовский винегрет и черный хлеб, пожаренный на растительном масле, считались деликатесами. Человеку вообще свойственно добавлять к необходимому наслаждение.
Мы бывали дома так редко, что по нам начинали скучать родители. Однажды в библитеку пришла мама нашей подруги Полины. Накормила всех нас (еее, винегрееет!), а потом попросила Полину поиграть ей на пианино.
В Публичке было все необходимое для духовной жизни петербургского человека: столовая, ноты и инструмент. Через час мы увидели Полинину маму. Она быстро шла по коридору, вытирая слезы.
— Почему расстроилась твоя мама, Полина?
— Потому что я играла без выражения.
Доцент выбрал на зачет самые заковыристые и малозначимые места. Если бы не исконная русская смекалка и помощь товарищей-вагантов, сдавших раньше нас, мы бы не справились.
Отстрелявшиеся счастливцы передали нам новости древнерусской литературы. Отрывки текстов зашифровывали так: «медведь», «колодец», «чуть не утоп», «кабацкая гунка» и т.п. По этим ключевым словам определялась стипендия.
Кое-как мы сдали зачет: все, кроме Полины. Ей не везло, вместо слитых «медведей» и «колодцев» попадались незнакомые никому («даже Панченкооо», — убивалась Полина) тексты.
Она приходила к Тихонравову семь раз. Делала все от нее зависящее: листала «Памятники» (читать их, как и предсказывал прозорливый доцент, мы пока не умели), надевала «счастливое» платье, клала пятак под пятку, собрала все шпаргалки. Ничего не получалось. Раз за разом она вытягивала совершенно неизвестный эпизод.
Доцент Тихонравов, видимо, тоже почитывал «Книгу перемен». Потому что призывал Полину «не сдаваться и упорно идти к своей цели».
В восьмой раз Полина снова вытащила текст, который не узнала. Доцент проявил милосердие и задал ей наводящий вопрос:
— Там подробно описывается биография героя. Расскажите, как он родился?
— Рождался он трудно, — находчиво ответила Полина со студенческим экзаменационным апломбом, который по-древнерусски определялся как «непостыдно лице имея, словно бес пред заутренею». — А потом всю жизнь беднягу преследовали неприятности.
— Вот как? Беднягу? — оживился Тихонравов. — Вы что, за него переживаете?
— Да. Понимаете, я чувствую в герое родственную душу…
Полина получила зачет, — единственная на всем курсе не за знания, а за свое доброе сердце. Без которого, как выяснилось, древнерусскую литературу не понять.
Как странно устроено воспоминание. Кажется, вот он случай, эпизод, маленькое приключение, слайд, который можно уместить в несколько слов. Но, когда начинаешь тянуть его за кончик из архива, вдруг выворачивается целая глыба, в которой слиплись Петербург, красные озябшие руки (потому что потеряны очередные перчатки), колючий запах ветра, подвалы рюмочных, где за высокими столиками роняют в себя водочные стопки бомжи и доктора наук, черные протаявшие проемы над горячими люками, вороний грай на Лиговке, расширенный до Пушкинской мегафоном сырого эха, запотевшие от дыхания спящих книг утренние окна Публичной библиотеки.
Так называемое воспоминание — каталожная карточка, краткая аннотация, где быстрым почерком указан год, автор, примерное количество страниц. Выходные данные. История — не то, что ты вспоминаешь. Это просто предлог. Предлог, чтобы еще раз пройти, или, вернее, пробежать от Гостиного двора по Невскому и свернуть на Фонтанку, прямиком туда, — в тот далекий нелепый день месяца китовраса.