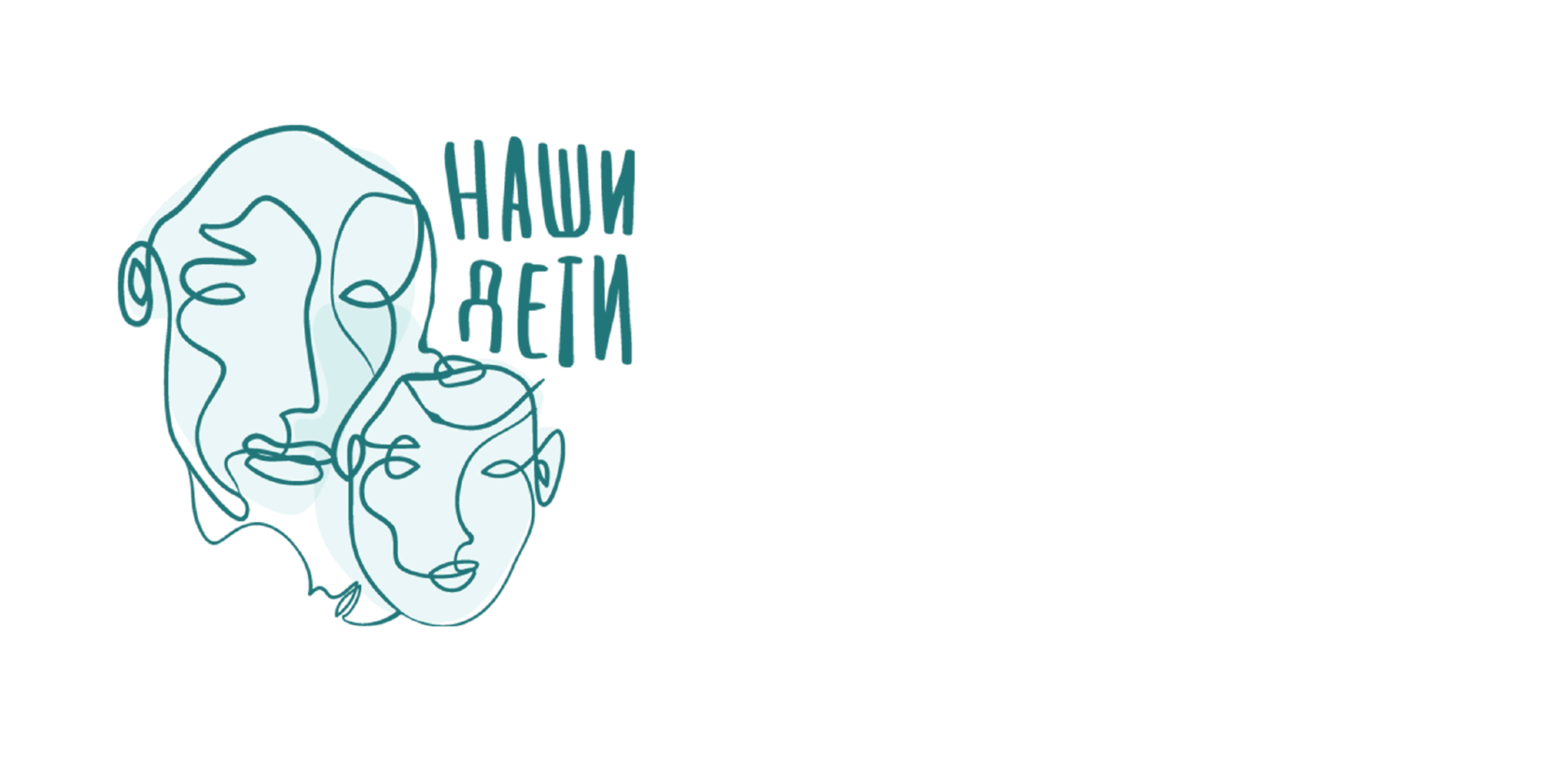Автор: , писатель, автор книг Записки неримского папы и Мемуары младенца
Фотография:
Хочу возгласить оду советским маркетологам. Эти люди, конечно, не знали, что они маркетологи. Но благодаря им некоторые неживые предметы до сих пор для меня живее некоторых живых людей.
Прежде всего, и это вне конкуренции, ряженка. На бутылках с молоком и кефиром были нахлобучены шапочки из фольги разных цветов, каких, точно не помню, но вот шапочку на ряженке я запомнил на всю жизнь: розовая, цвета предрассветных облаков. Да и сама ряженка смахивала на раскрасневшееся от стеснительности молоко, что тоже доставляло. В детстве я был влюблён в ряженку, и это чувство с годами не исчезло. Мы с ней до сих пор красноречиво переглядываемся в супермаркетах, как Штирлиц с женой.
Если говорить о влюбленности, то ещё я был влюблён в девушку с сыра «Виола». Да, вот такой я неразборчивый бонвиван: и ряженка, и «Виола».
Ламповые радиолы, на крыше у которых можно было проигрывать пластинки и по которым мы изучали географию, по силе воздействия на детскую психику не уступали НЛО. Лично я останавливал колесико чуть справа от Будапешта: там пикало таинственней всего.
«Запорожец» мне было элементарно жалко, как человека, особенно горбатый. Мне и поныне не понять, зачем запихивать двигатель в задницу и без того не Алену Делону от автопрома.
Бигуди казались страшным оружием, страшнее ядерного: эти патроны так взрывали мамину причёску, что ее было жалко похлеще горбатого «Запорожца».
Но страшнее всего были, конечно, советские пылесосы — те, которые вытянутые, удлинённые. При этом они выглядели довольно эргономично. Казалось, что на одном из таких Гагарин вполне мог полететь в космос, и Королев зря парился. Советские пылесосы внушали животный ужас. Когда они включались, обесточивалось полрайона. Нашим военным надо было просто выстроить с десяток этих пылесосов на каком-нибудь приграничном аэродроме и дать американскому самолёту-разведчику их сфотографировать. Холодная война закончилась бы в тот же день.
Сгущёнка. Сколько безымянных сырников призналось тебе в любви! Сколько тебя погибло, взорвавшись в кастрюлях, во время наших детских гастрономических подвигов.
Огромную роль в воспитании из нас, советских мальчиков, мужчин, играли кильки в томате. Ведь только очень смелый человек мог решиться открыть банку с настолько меланхолической рыбой на этикетке. Хуже выглядел только сырок «Дружба». Дружить с ним не хотелось, даже под угрозой вытянутого пылесоса.
Кофе растворимый (на упаковке писалось именно так, с инверсией) представлял собой уникальный продукт, с которым можно было без подготовки выступать в цирке. Он растворялся в чашке настолько, что не оставлял следов: вода после такого кофе ещё больше отдавала водой.
Напитки в CCCР вообще были аномальной зоной, где росли самые жирные мухоморы. Кофе, растворимый лишь в фантазии его производителей, это еще цветочки. Березовый сок в трёхлитровых банках — вот это уровень. Ребенком я заходил в рощи и гладил березы. Но моя печаль была не есенинского свойства. Я гладил березы и видел перед собой эту страшную трехлитровую банку, в которую два бородатых мужика, держа срубленный ствол с двух концов, выжимают березу насухо. Бородатые мужики в моем воображении поразительно напоминали дедов Мазаев — так я, городской мальчик, представлял себе русский народ. Два бородатых мужика, выжимающие березу в трехлитровую банку, после того, как они только что утопили Муму — гештальт, который не закрыть и трем Перлзам. Кстати, помидоры из таких же банок с томатным соком я не жалел: они изначально выглядели нестабильно.
С детскими продуктами все тоже было не так уж невинно. Производство ирисок, как потом выяснилось, спонсировалось советскими стоматологами. А «Буратино» — советскими гастроэнтерологами. И, хотя мальчик с длинным носом на этикетке выглядел нездорово, советскую детвору это ничуть не смущало: жажда всегда права. Из советских детей вообще было впору делать гвозди, маленькие и аккуратненькие. Ведь, помимо ирисок и «Буратино», еще существовали «Неваляшка» и «Птичье молоко». То есть, игрушка, которую было невозможно победить, и торт, произведённый из субстанции, неизвестной науке. Я всегда плакал, когда ел этот торт. Родители причитали над ухом про дефицит, а у меня перед глазами стояли замызганные дворовые голуби с паралитическими шеями, которых немилосердно доят.
Единственным честным продуктом советской эпохи, как ни крути, остаётся портвейн «Три топора». Праотцы нынешних маркетологов все открыто изобразили на упаковке. Это, конечно, никакой не топор и тем более не семерка. Это коса. Та, с которой ходит сами знаете кто. Причём для пущей убедительности маркетологи поместили аж три косы. Но советских людей, выкормленных голубями, было уже не остановить.