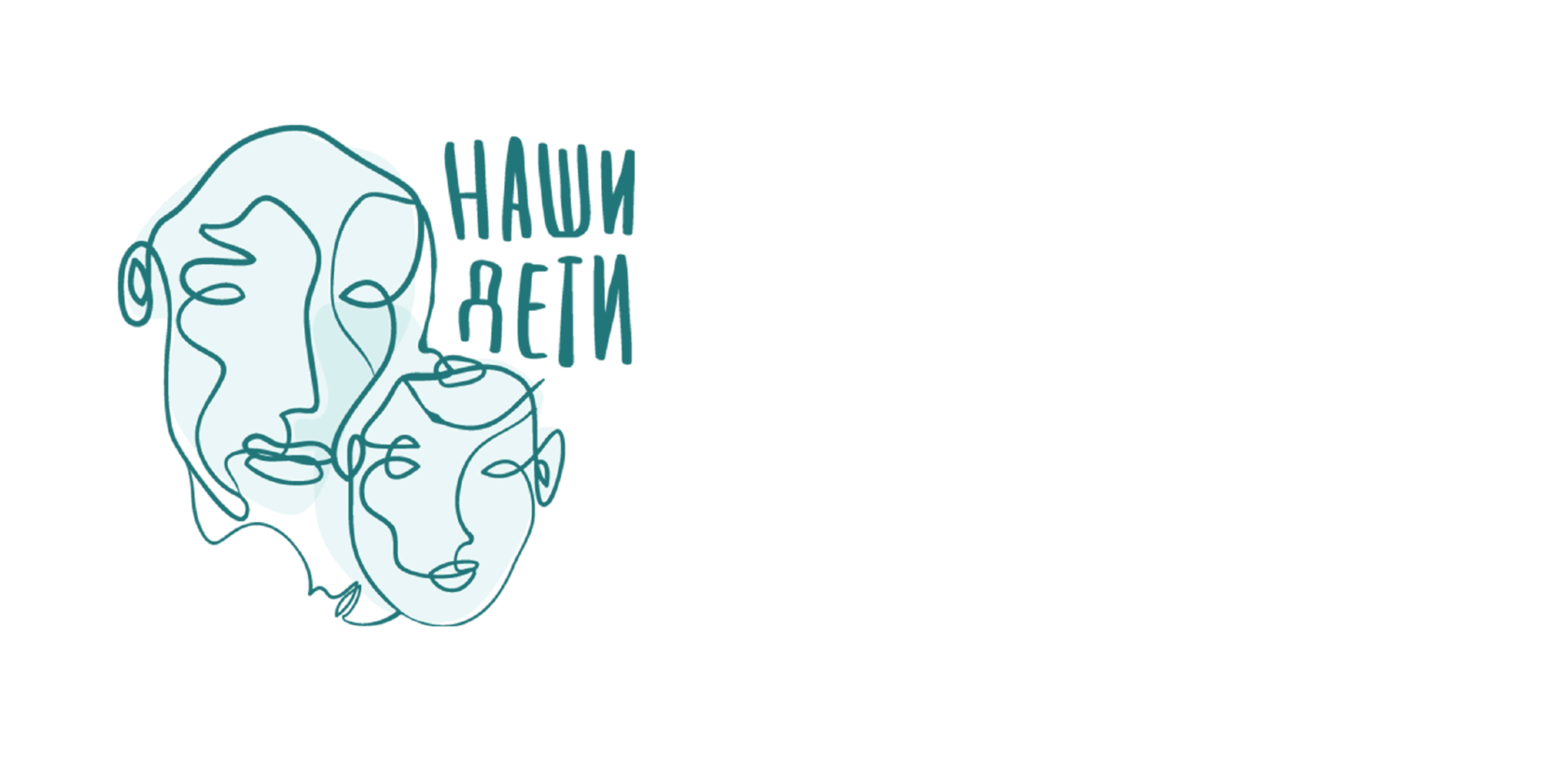Автор: , писатель, автор книг Записки неримского папы, Мемуары младенца и Мистер Эндорфин
Фотография:
Этот текст написан довольно давно, но сейчас из-за известных событий в Сибири он зазвучал для меня по-новому.
Есть люди моря и есть люди леса. Это прямо два разных типажа, практически противоположных. Как Айвазовский и Шишкин.
Я — человек леса. Море меня не вштыривает. Все эти «шепча про вечность, спит оно у шхер» для меня — стариковское бормотание и причитание по берегу. Я — конченный Шишкин.
В лесу я переживаю почти религиозный опыт (собственно, люди моря могут сказать то же самое про свой фетиш). В лесу меня не покидает чувство, что лес что-то знает. По крайней мере, гораздо больше, чем говорит.
Однажды в детстве я сидел на даче в самой удаленной точке нашего участка, у склона, заросшего рощицей, на ступеньках старого полуразвалившегося сарая. Я читал журнал «Техника молодежи», короткий художественный рассказ про лес. Это была фантастика. Автора я не запомнил, и дорого бы я дал, чтобы подключиться сейчас к тем своим глазам и сделать скриншот. Рассказал был гениальный. Про то, как человека, прикованного к инвалидному креслу, привезли в лес подышать свежим воздухом. Отлучились за грибами-ягодами, а когда вернулись, инвалидное кресло было уже пустое. Бросились искать и нашли неподалеку, среди рабочих, которые валили деревья. У них в канаве застрял бульдозер. Человек из инвалидного кресла стоял рядом. Его хлопали по плечу и благодарили. Только что он вытащил бульдозер из канавы голыми руками. Лес не просто его вылечил, но и наделил невероятной силой.
Я читал и поглядывал на деревья на склоне. Они перешептывались над моей головой. В отличие от китсовского моря, они шептались не про абстрактную вечность. Они обсуждали меня. Это было совершенно очевидно.
Мое детство вообще каким-то мистическим образом связано с лесом. Когда я думаю о своем детстве, то представляю себя под сенью. Небо в те годы проглядывало сквозь листву. Как-то я застал закат среди корабельных сосен. Солнце проникло в кроны сотней дымящихся пылинками лучей, и стволы вдруг затеплились, задышали светом, как гигантские свечи, воткнутые в землю. Именно в такие моменты люди начинают верить в Бога.
И только раз я усомнился во всемогуществе леса. Мы с дедом ходили по грибы, это было в Брянской области, в середине восьмидесятых. Мы забрели в чащобу, где днем стоял сумрак. Лес дремучий, зачарованный, как из сказок Пушкина, тот самый «лес и дол видений полны». Воздух там курился, мох ползал по деревьям. Это был даже не лес, а бор. Еще есть прекрасное слово «урочище», таинственное, которое можно произносить только шепотом, но тогда я его не знал. Я шел по пружинистой земле, переступая через хребты доисторических корней, и думал, что вот этот конкретный лес, конечно, загадочный, но мы с дедом здесь, скорее всего, первые люди, и про нас, людей, он ничего не знает, и если спросить его, не ответит. Под моими ногами что-то блеснуло.
Я поднял с земли какую-то ржавую металлическую полоску с ячейками. Подошел дед и взял находку у меня из рук.
— Пулеметная лента, — сказал дед.
Деревья над моей головой зашептались.