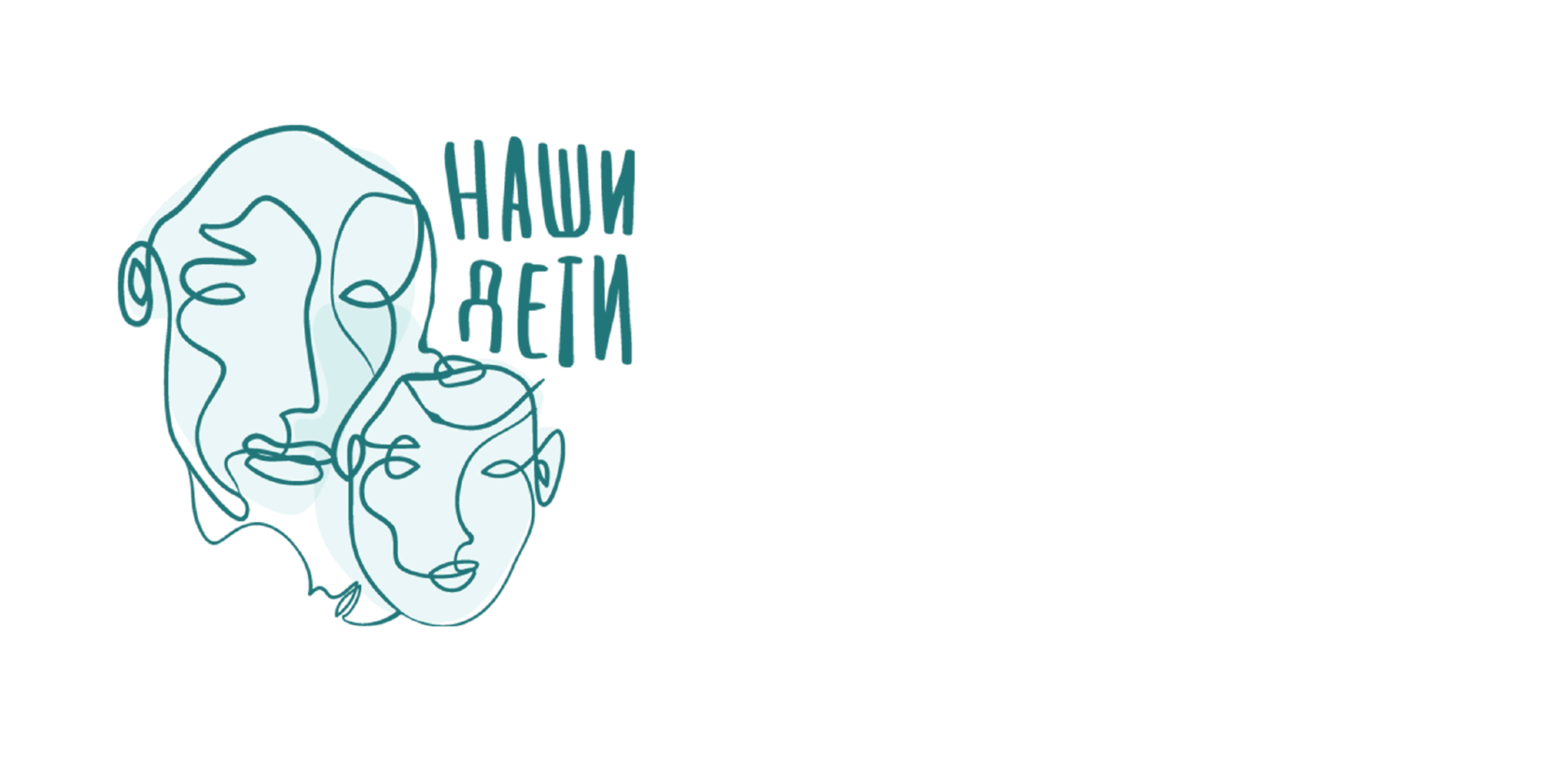, автор книги Исповедь старого молодожена
История моего отрочества — это Ручечник из «Место встречи изменить нельзя»:
«Шарапов: Слушай, он хромой, что ли, с палкой?
Жеглов: А ты с ним побегай наперегонки. Это он трость для понта носит, солидности добирает».
Все свои юные годы я носился в поисках магического аксессуара, с помощью которого я мог бы радикально добрать солидности. Я был очень умен и непоправимо очкаст. Мой внутренний мир слишком явно отпечатывался на лице, а в начале девяностых это было не модно. Меня могли спасти разве что татуировки на полтела, но в то время наше гражданское общество еще не открыло для себя массовый светский татуаж (а садиться в тюрьму ради татуировки я не хотел). А не то я бы нарисовал себе хной какую-нибудь страшную змеюку по горлу, как у Клуни в «От заката до рассвета». Хотя, кого я обманываю...Чтобы показаться «крутым», мне пришлось бы с головой нырнуть в таз с хной.
Но однажды мне выпал реальный шанс «покрутеть».
Наш двор объявил войну соседнему. Легендарные дворовые хулиганы, эти мотыльки в треуголках с наполеоновскими амбициями, чьих имен я сейчас уже и не вспомню даже под гипнозом, набирали возле качелей армию. За мной прибежали дружки с объявлением всеобщей мобилизации.
Судьба порой подглядывает в замочную скважину за нашими мечтами. Буквально накануне я купил на «Черкизоне» свою первую боевую куртку и размечтался о рыцарских подвигах, разглядывая себя в зеркале. По крою (если подобное понятие вообще применимо к товарам с «Черкизона») куртка была широкой, балахонистой, дутой, с пухлыми рукавами. Она визуально увеличивала меня в размерах ровно в два раза. Из дрища в Ван Даммы — такой вот «крой». Но, самое главное, там на рукавах с двух сторон изображались два свирепых красномордых быка с надписью «Chicago Bulls». А это напрочь затмевало потенциальные татуировки из хны. Я в ту пору еще не дружил со спортом и про баскетбольную команду «Chicago Bulls» ничего не знал. Но быки доставляли. Я и сам трепетал при виде этих монстров: от одного взгляда на них адреналин начинал хлестать, как из шланга.
Я собирался на свою первую войну, а дома, как назло, никого, кроме кота, не оказалось. Я прощался с котом Тихоном около часа, шепча в его недовольно отвернутые ушки последние слова. Когда я направился к двери, Тихон побежал к окну, выходящему во двор, запрыгнул на подоконник и приготовился втыкать в происходящее снаружи. Видимо, кот что-то понял про мою ситуацию, потому что он довольно потирал лапы в предвкушении.
У качелей строились хулиганские полки. Мелькали люди с хоккейными клюшками, а у одного мальчика даже были нунчаки. Он стоял поодаль и тренировался, через раз попадая себе точно по голове.
Наш главный местный Мамай деловито расхаживал перед строем. Его эго требовало установления ига, от нашего до соседнего двора, как минимум. Он одобрительно хлопал по плечу своих товарищей, поправлял клюшки, подбадривал. При виде Мамая мне захотелось к маме. Эти два слова звучат похоже, но означают катастрофически разное. Ноги у меня затряслись, в горле пересохло, сердце стучало где-то в районе уха, пытаясь выскочить через черный ход. Мне показалось, что я заболел, но померять температуру не было никакой возможности, да и градусник я неосмотрительно забыл дома.
Мамай толкал какую-то бодрящую милитаристскую речь, а я думал про то, как рано мне умирать, ведь я еще не успел испортить жизнь ни одной женщине. Быки на моих рукавах били копытами, хотя и были изображены только в виде одних голов.
Мамай закончил свою тестостероновую речь и дал команду выдвигаться в соседний двор. Сделав пару шагов, он вдруг остановился, повернулся к нам и сказал, показывая на меня пальцем:
— Ах, да, баскетболиста не берем. У него глаза какие-то безумные, еще прибьет кого-нибудь.
Орда растворилась в московском сумраке. Я остался во дворе совсем один. Подняв голову, я увидел в окне своей квартиры кота Тихона. Он хохотал, схватившись лапами за пушистый живот, заразительно, как только коты умеют.