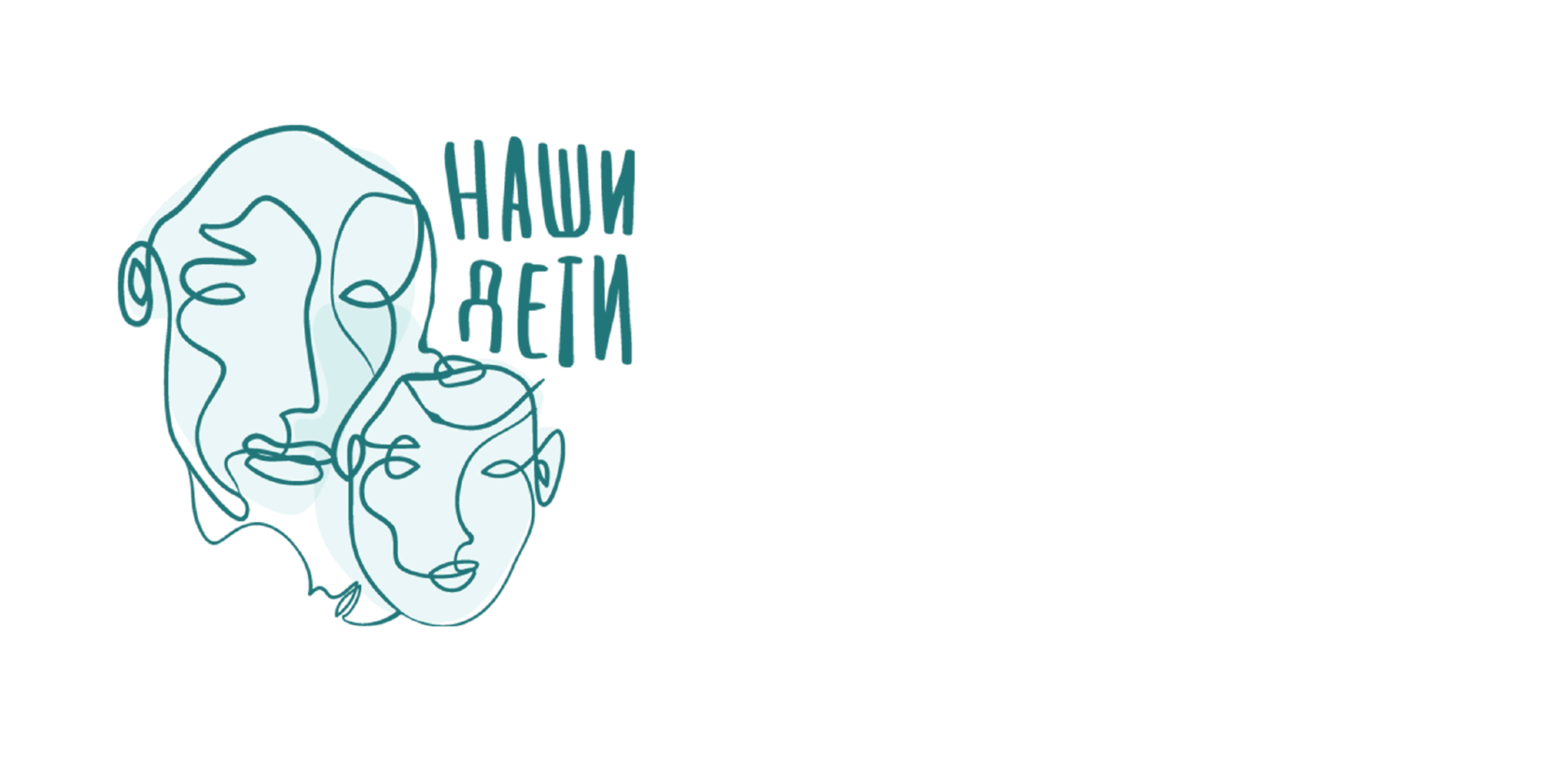, автор книги Исповедь старого молодожена
Не играть ребенком в футбол, уделять ему внимание, отзываться на зов, словно ты — Джейн, а он — Тарзан, и не затыкать ему рот цифровой соской — это все, конечно, благородно и весьма живописно выглядит на бумаге.
На деле же ребенок быстро привыкает к родительскому вниманию и порой начинает дергать за ниточки, даже когда ему ничего особенно и не нужно, просто в режиме кукольного театра. Я не могу похвастаться толщиной своих ниточек, поэтому время от времени страдаю, как Леопольд от мышей, с той лишь разницей, что у меня мышь одна, а стоит тех двух.
Я не ропщу. Однажды, проплакав всю ночь, я раз и навсегда договорился со своими демонами на берегу: моя либеральность — та цена, за которую я выкупаю у своей совести ее угрызения. А вдруг из очередной пустячной игры с Артемом, где моя роль будет сведена к мебели, прорастет его будущее призвание: мы ведь не знаем, когда лопаются внутри эти семена, и появляются первые побеги. Но это уже так, лирика. Главным образом, конечно, угрызения.
Хотя возроптать иногда хочется. Очень.
Однажды вечером я вернулся домой в особенно разобранном состоянии. Биоритмы уже не делали вид, что они поднимаются и, не стесняясь, репетировали клиническую смерть. Мое тело было слишком навязчиво и напоминало о себе повсеместно, даже в районе пяток, о существовании которых я раньше не подозревал. Я прошаркал по коридору дымящимся роботом Вертером и рухнул на диван. Я не просил у мироздания многого: всего лишь пять минут анабиоза. Но у Артема в тот вечер на мой хладный труп были большие планы.
Сын играл в реаниматолога: прыгал на мне, поднимал пальцами веки, продувал мне ушные каналы, он даже попытался сделать мне трахеотомию. Во всяком случае, малыш всерьез рассматривал перспективу воткнуть мне в горло некий продолговатый предмет.
— Папа! Папа! Папа! — кричал Артем, и я с удивлением вспоминал времена, когда умирал от счастья, слыша это, — давай играть!
— Я не могу, Артем, плохо себя чувствую, давай я пять минут полежу, и мы поиграем.
— Папа! Папа! Папа! — вопил Артем, удивительно точно выдерживая тональность, — давай почитаем книжку!
Это была в своем роде военная хитрость: у меня есть пунктик на «недочитанности» Артема в его четыре, и при первом удобном случае я спешу его дочитать, впихнуть в него прозы с горкой и утрамбовать сверху поэзией.
— Не могу... плохо... пять минут...— выдал я в режиме телеграммы, экономя последние силы.
— Папа! Папа! Папа! — на девятом «папе» у меня, наконец-то, благополучно лопнула барабанная перепонка, — давай поделаем хоть что-то!
— Я только молчать сейчас могу, малыш, прости, — простонал я, переступив через контейнирование и прочий воспитательный иконостас. Мой контейнер с гигантской дырой в фюзеляже догорал в бурьяне.
— Папа! Папа! Папа! — воодушевился Артем и, кажется, перешел на тональность выше, — давай молчать!
— Я молчу, сынок...
— Нет, папа, не так, громче молчи!
Я лежал, сладко теряя сознание, и вспоминал Бунина, Ивана Алексеевича, то прекрасное место из «Темных аллей», помните:
«Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов».