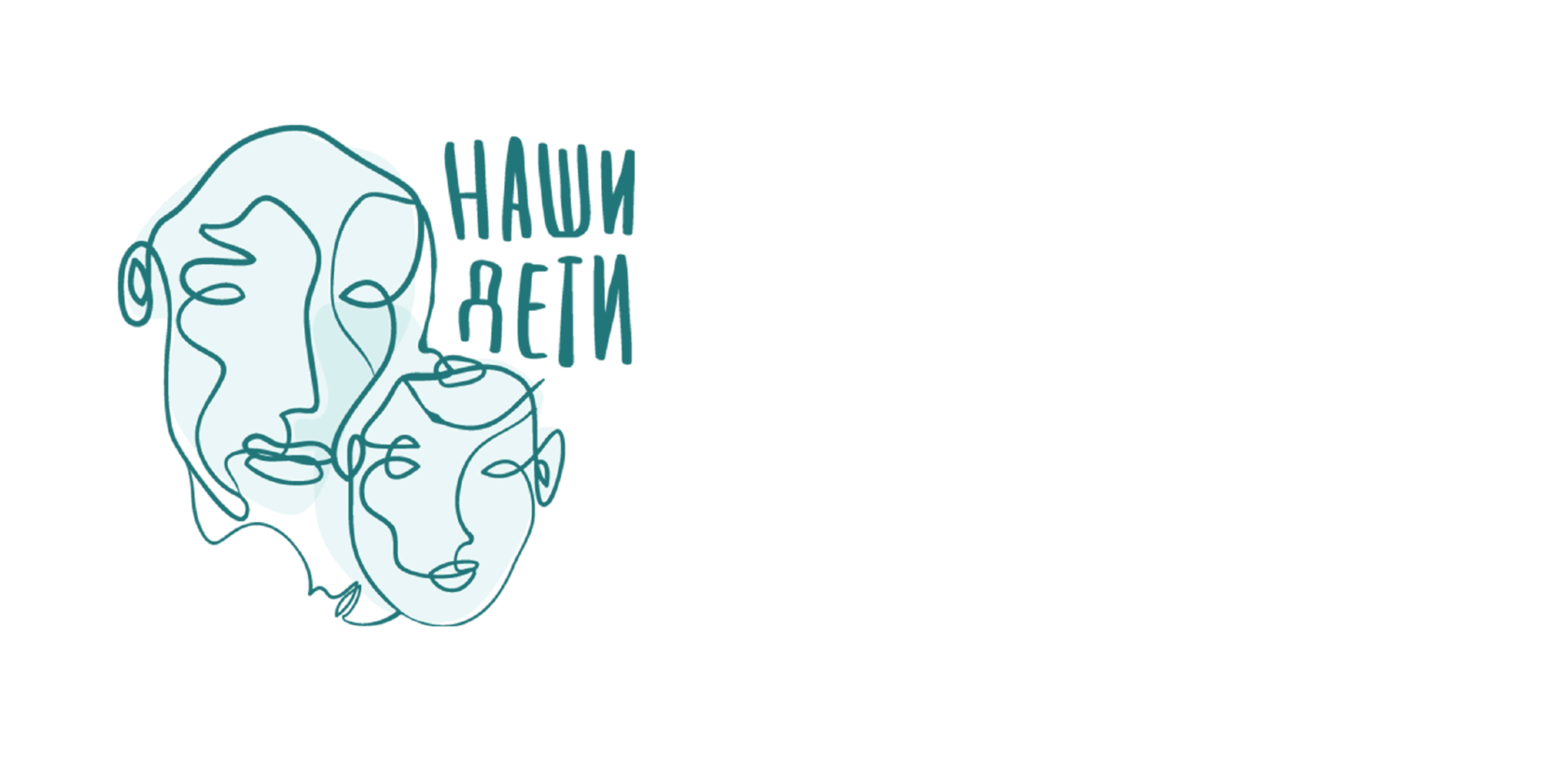Автор книги О том, что есть в Греции
Невероятно прекрасная Екатерина Фёдорова и ее воспоминания о детстве без планшетов, телефонов и даже почти без телевизора. С книгами — проводниками в параллельные миры — сказочные, фантастические, романтические. У каждого из нас они свои. Текст Екатерины — зеркало, через которое можно снова заглянуть в мир собственных детских воспоминаний.
Проснулась от стука железных слоновьих ног по крыше дома. Слон выплясывал под аккомпанемент осипшего струнного оркестра. Не сразу сообразила, что происходит. Потом поняла: это был северный ветер.
Выбежала на улицу за дровами для камина, хлебнула студеного воздуха, и в горле мгновенно вспыхнул вкус болезни – влажно-пористый, бархатистый, как листок герани; искристо и глухо отдающий в нос лимонадом, точно французское слово. Так бывало в детстве, когда болезнь большая, а ты – маленький.
Горячий лоб, заманчивая (не надо в школу) немощь, горькая таблетка, растолченная в малиновом варенье и клюквенный морс. На сковороде котлеты с макаронами, но есть необязательно, пока родители на работе. Можно целый день валяться на жестком (охота пуще неволи) диване в большой комнате, листать репродукции импрессионистов. Серо-розовые скользкие листы, на которых – размытые на пиксели женские улыбки, коротконогие, туманно-синие балерины.
Название картины Моне я прочитала и запомнила с ошибкой: бульвар КапуцинОк в Париже. Как не хотелось узнавать правду, переучиваться! Колокольчики имени сразу остыли, волшебную фонетическую шараду запятнала реальность улицы. И Парижа.
Телевизор молчал до вечера, зарешеченный футуристической таблицей, скупо расцвеченной улыбкой робота.
Единственная живая компания была – северный ветер. Он – гигантская опьяневшая арфа, – сипел, стонал, старался, выл, грассировал, гравируя окна симметричными ледяными завитками, – единственно доступным барокко в нашем скудном казарменном городишке с фельдфебельской выправкой, в котором отродясь не водилось ни парков, ни дворцов, а единственным памятником являлся обелиск павшим героям-североморцам, у которого мы, школьники, выстаивали “вахту памяти” в праздничные коммунистические дни.
И чем мрачнее становилось на улице, тем церковнее горела настольная лампа, – вечным огнем, как фаворская свеча Петрарки, у которой он прочитал свою последнюю в жизни книгу.
Мои любимые библиотечные сокровища: Майн Рид, растрепанное собрание Дюма (красный нечестный двадцатитомник), целомудренно-сиреневая “Пармская обитель”, и еще – какая-то жалостливая американская повесть, название которой память не сохранила, – про угнетаемую чернокожую няню, которую белый ребенок сначала презирал, а потом не смог без нее жить. Большая теплая черная няня в огромной белой ночной рубашке, ребенок в ночной температуре, кажется, он умер, о, горестная американская пьета.
В узких библиотечных коридорах чувствовалось просторно. Приятно было дотрагиваться до потрескавшихся книжных корешков, аппетитных, пахнущих терпким ванилином, так похожих на нежно-коричневые творожные шаньги из школьной столовой.
На брандмауэре школы всем нам известным быстрым почерком было выведено: “Учиться учиться и еще раз – учиться”.
Ленин зря потратил три своих желанья: учиться-то мы учились, но мало запомнили и еще меньше понимали.
Мы не умели описывать свой рай, умирать и одновременно воскресать, смотреть библиотечные сны, выходить раз за разом в открытый космос детства, в котором ныне и присно будет синий снег, блестящая глянцевая пустота, дымящийся иней и горячая четвертинка черного хлеба, царапающая язык и губы, если вынести ее из булочной и съесть на морозе.
Этому может научить горячий лоб, или, может быть, та жуткая оранжевая микстура от кашля, сироп из ангельских слез. А еще – книги и северный ветер, хотя, я думаю, что ветер у каждого свой.