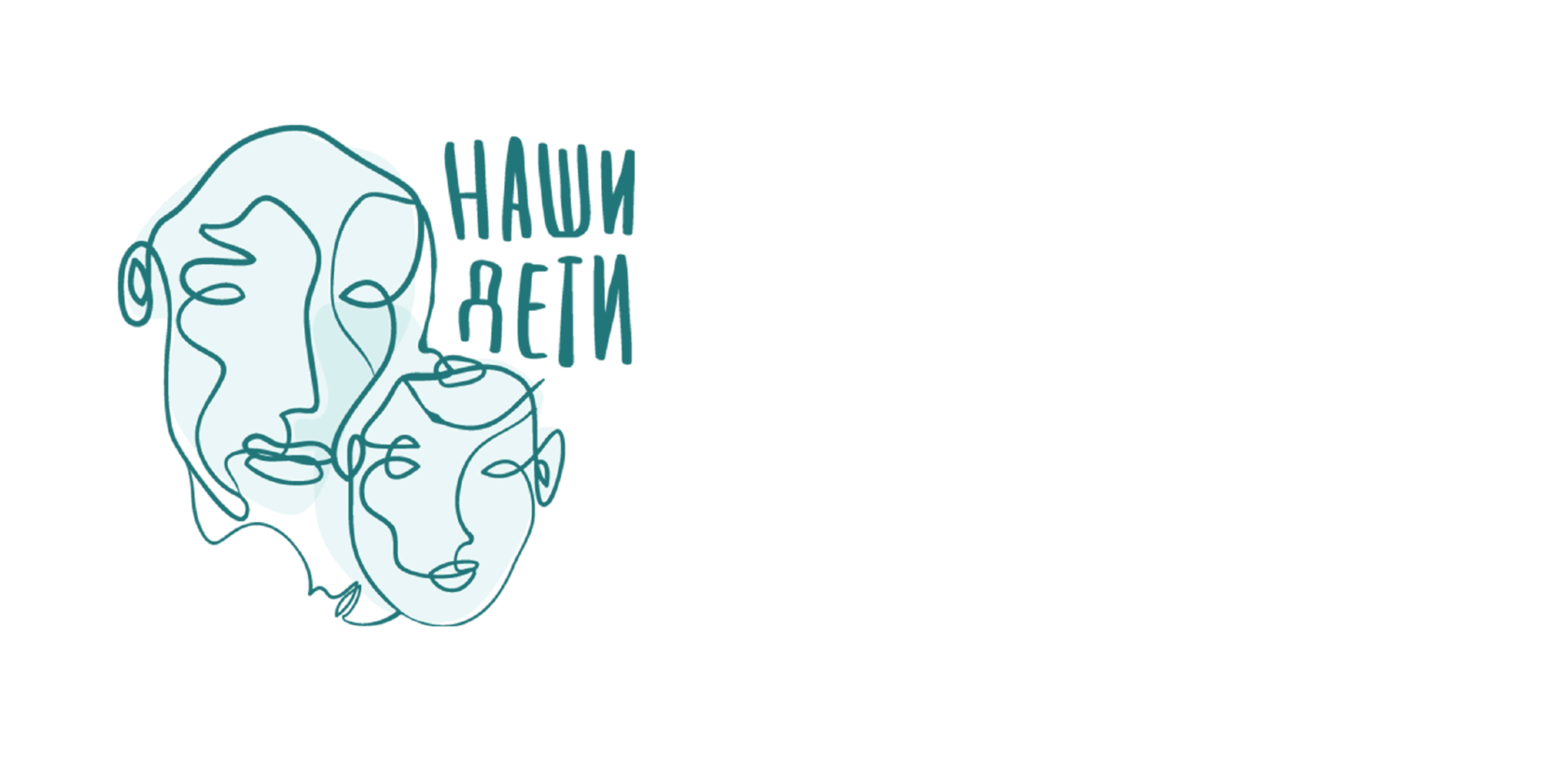Автор книги О том, что есть в Греции
Мои дети меня, конечно, любят. В этом я не сомневаюсь. Но такой, очень непривычной мне, затюканному советскому мамонту, продвинутой любовью, — сепарированной, несозависимой, современной. Построенной не на вышедшей в тираж авторитарной привычке говорить родителям только вежливое и приятное, а на новейшем гуманистическом принципе абсолютной, беспощадной, гласной искренности.
Маша прямолинейно делится новостями:
— Преподавательница — пожилая женщина, твоего возраста.
Вася своим друзьям рассказывет обо мне так:
— У моей мамы было две кошки. Одну звали Гитлер, вторую — Муссолини.
Друзья бледнеют и горячо сочувствуют Васе. И боятся спрашивать, как зовут меня. Вдруг Сталин?
Маша меня воспитывает:
— Мама! Прекрати есть и пить. Начни ходить на спорт и красить брови! Быть красивой — просто.
Маше в ее 20 кажется, что быть красивой просто, а мне в 43 — что в 20 лет вообще все просто. (Мы обе ошибаемся).
Вася самостоятельно решает ключевые домашние вопросы:
— Мама, я знаю, тебе не понравится, но я решил завести питомца. Это не обсуждается. Я заведу маленького, но очень сильного.... муравья!
Нечасто, редко, но бывает иначе. Иногда дети хотят сделать мне приятное. Тогда Вася подходит ко мне, вздыхает и говорит:
— Мам. Ну, давай сфотографируемся. Ты же хотела. Побудем, как будто мы — ребенок и его мать.