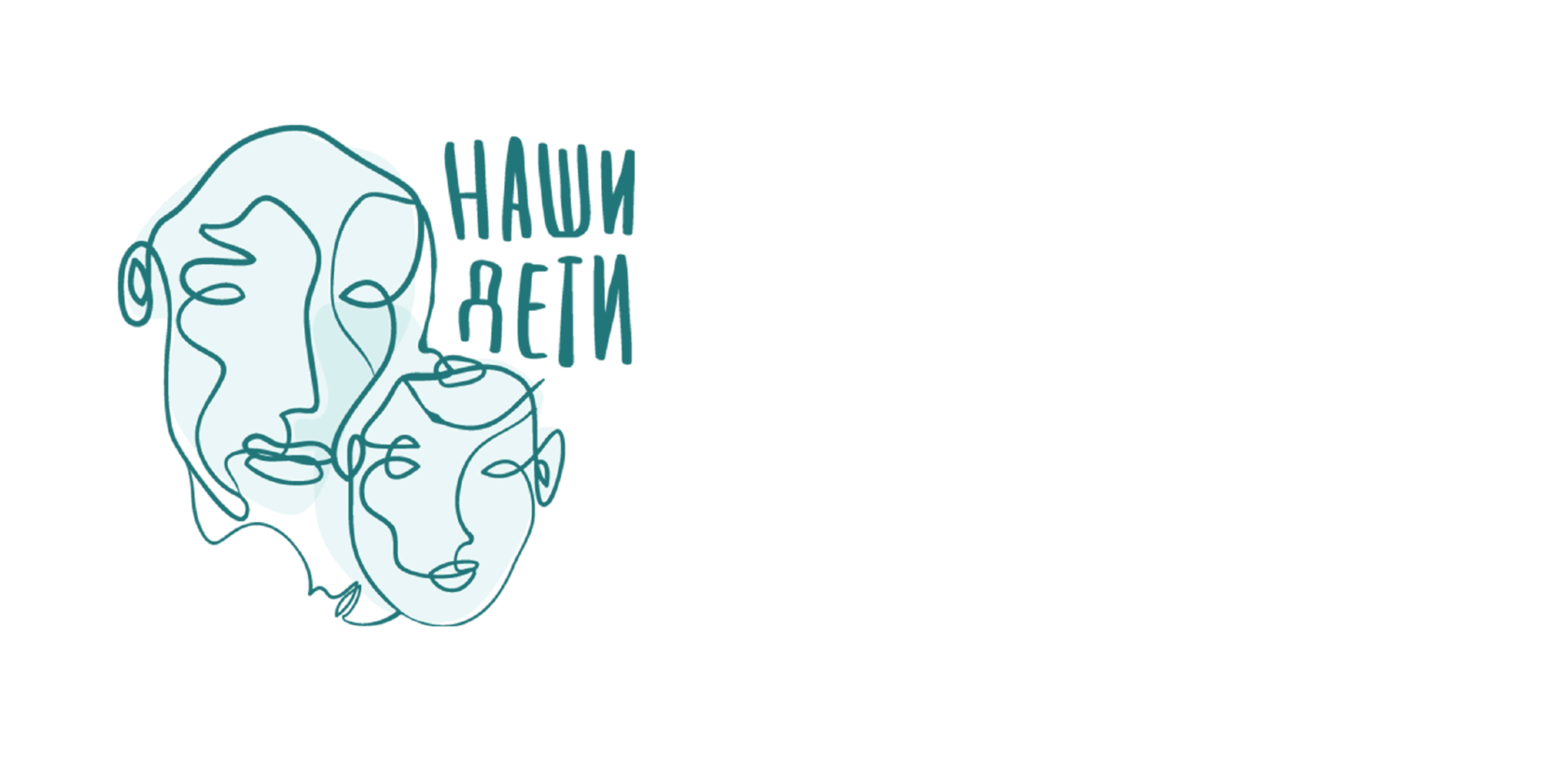Автор: Мария Ковина-Горелик, автор проекта How to Know How о бережном изучении английского языка
Фотография:
В свои 38 лет я могу уже спокойно, твердо и однозначно сказать, что своими достижениями в английском языке я в огромной степени обязана раннему старту. Первые английские слова я научилась говорить в неполные четыре года. Это – отправная точка этого текста.
Ремарка: все нижесказанное относится к ситуации изучения английского языка русскими монолингвальными детьми, живущими в России.
За время работы в рамках проекта How to Know How я получила более сотни разнообразных запросов от мам, бабушек и теть, обеспокоенных выращиванием билингвов, трилингвов и прочих диковинных зверушек. Много нюансов запомнилось мне из их встревоженных посланий, и одно я сейчас возьму в качестве второй отправной точки для своего рассуждения. Одна мама в отчаянии спрашивала меня, что они делают не так как родители либо что не так делает педагог, потому что, цитирую, «мы были на детском празднике, и все детки поют и читают стишки на английском языке, а мой молчит!» Я не помню, что я ответила тогда, но я хочу ответить сейчас. Этим текстом.
Он будет про меня как про пример реализации родительских чаяний и отчаяний. Я – пример хороший. Во-первых, близкий, во-вторых, достаточно выросший, чтобы можно было говорить серьезно.
Мой ранний старт, как я уже говорила и писала (но, как выясняется, многим и в голову не приходит ознакомиться с моим обширным и совершенно бесплатным культурным наследием, прежде чем задать свой такой уникальный в рамках одного вопрошающего и такой тривиальный для меня вопрос в личном сообщении), сформировался из трех факторов.

В возрасте двух лет мне подарили потрясающий американский букварь в картинках – что называется, «на вырост». Букв и слов я не понимала, но визуальный ряд впитала глазами так, как только можно впитать в себя самую любимую книжку детства. Любовь моя к этой книге была так велика, что именно сейчас, в момент написания этого текста, я жду доставки из Америки с редкой посылкой: таким же букварем того же года издания (не переиздавался) в дополнение к моему едва живому ветерану. Стоила мне эта книга как настоящая библиографическая редкость. Замены ей в сегодняшних таких богатых магазинах я не вижу. Эта книга открыла для меня параллельную вселенную, в которой люди праздновали другие праздники, играли в другие игры, ели другую еду, где по-другому работали магазины и почта. Без слов она дала мне главное: информацию о том, что где-то люди живут и говорят совершенно иначе, чем здесь. При этом, судя по картинкам, у нас одинаково устроены тела, мы корчим одни и те же рожи, когда трескаем лимон, мы так же радуемся новым письмам, пусть и вынимать их в том, другом мире, нужно из непонятного железного ящика на столбе. Это была важная отправная точка разности и общности мира одновременно.

Примерно с 4 до 10-11 лет один-два раза в году я общалась с настоящей маленькой британкой, которая приезжала в гости к своей русской бабушке, подруге моей бабушки. Конечно, никаким погружением в среду для меня это быть не могло, потому что в среду как раз погружалась Алиса, а не я. Мы говорили на помеси двух языков, в которой явно преобладал русский. Однако этот фактор тоже сделал свое дело: каждые полгода я получала вполне ощутимое впрыскивание идеи разнообразия языковых реальностей. Я проживала и осознавала момент «понятно – непонятно», разные слова, возможность перевода, возможность объясниться через жесты, предметы, помощь взрослых. Я приобрела опыт успешного контакта, невзирая на языковую разность.

С неполных 4 и до 7 лет я ежедневно посещала детскую дневную группу с английским языком – собственно, самый важный фактор моего раннего прикосновения к англоязычному миру. Я плохо помню, как проходили наши занятия, но точно помню, что основным языком общения, конечно, был русский. Никаких великих погружений, среды, не говоря уж о носителях: нашу воспитательницу звали Раиса Иосифовна. Английский вводился как-то исподволь, незаметно и ненатужно. В группе мы проводили по 5 часов в день, из этого времени точно часа полтора уходило на 2 прогулки и минут 40-50 на перекус с бутербродами из дома и чаем (и уборку за собой). Остальное – свободная игра, рисование, лепка, ну и в каком-то виде английский язык. Учебников и любых печатных пособий не было. Ни разу за три года у нас не было никаких чертовых утренников, выступлений для родителей, стихов наизусть с табуретки и прочего парада планет. Дома никому не приходило в голову спрашивать меня: «Ну, что вы сегодня выучили?» или «Ну-ка, Машенька, как сказать по-английски: «карандаш»? Трехмесячный летний перерыв никого не волновал, языком я не занималась летом никак, ни единого словечка. Кстати, в ежедневном доступе ко мне каждое лето был вузовский преподаватель языка – моя родная тетка. И ничего, ни звука. (Только сейчас об этом подумала, раньше даже в голову не приходило! Сижу в благоговейной благодарности к мудрости моих старших). Совершенно точно ни одному из детей в группе не нанимали никаких дополнительных педагогов. Наши достижения ничем не измеряли, никак не регистрировали и никому не демонстрировали.
Немедленный итог: к окончанию «группы» я умела сказать несколько фраз о себе, знала алфавит, счет до 100 точно, множество разрозненных слов из категорий «сезоны», «повседневная жизнь», «цвета», «еда», «напитки», «погода», «люди, тело человека», «животные», знала самые употребимые социальные формулы, а также еще с десяток-другой стишков и песенок.
Отложенный итог: полное отсутствие страха перед языком, полное отсутствие ощущения «картонности», «нереальности» и т.п., очень свободное обращение с ним, теплое отношение, ощущение присвоения, интериоризации, ощущение «мое, родное, любимое, понятное, ручное». Ощущение «я хорошо знаю английский язык» – у меня и у окружающих (потом с этим будет много возни). Ощущение, что у меня явно есть к этому способности, – в том возрасте больше, конечно, у окружающих.
Первый год в математической школе проходил без языка. В программе его не было, дома – тоже. Мои единственные дополнительные занятия – домашние уроки игры на фортепьяно, и те начались ближе к весне. Со второго класса язык пошел в школе, и я помню, что знала ответы на абсолютно все вопросы учительницы, поэтому мне очень быстро стало лень хоть сколько-нибудь включаться в урок. При своих блестящих данных и выгодной подготовке я отсиживала полтора часа в искренней скуке, из которой мобилизоваться для ответа на обращенный конкретно в мою сторону вопрос, было не всегда легко. Оценка «5» стала моим постоянным и в общем-то ничего не означающим спутником. Другими спутниками стали более или менее постоянные репетиторы.
Ужас в том, что так примерно прошла вся школа. То есть в тумане и на круглых пятаках. Я не знаю, что я там делала на уроках – вероятно, что-то делала, раз оценки ставили, в масштабах свежего материала я соображала всегда, да и быстрее всех остальных, и в общем была не просто лучшей в классе, а, скажем так, полностью оторванной от проистекавшей в нем реальности. Другой кастой. Некоторые учителя пытались отсаживать меня на последнюю парту с индивидуальными заданиями. Я делала их за 15 минут и дальше – опять изнуряющая скука.
И вот, что я на это скажу: безнаказанное и беспочвенное ощущение себя супергением в условиях, где я не была даже приблизительно загружена согласно своим способностям и подготовке, отливалось мне потом довольно долго и довольно горько. Я много лет совершенно была не в состоянии адекватно воспринимать свой уровень и эффективно учиться дальше. Если бы не репетиторы, я бы не прогрессировала никуда, но с ними я прогрессировала как-то уж очень… диффузно.
В мои 11 бабушка решила испортить мне все лето обязательным чтением и переводом оригинальной неадаптированной британской прозы начала 20 века. К книге для работы мне был выдан карманный англо-русский словарик, в котором, естественно, не было и половины нужного. С каждой печатной страницы я выписывала по 2 тетрадных страницы новых слов, потом пускалась на словарные поиски – бесполезные в половине случаев. Смысл не складывался. Английский стал моим проклятием. Я ненавидела эту книгу и не прочитала ее до сих пор – говорят, хорошая.
Заниматься языком я разлюбила. Иногда меня увлекали отдельные моменты, отдельные учителя, но в целом – разлюбила. Я металась между школьными занятиями, где меня никто не мог насытить, и частными уроками, где все давалось уже совсем не так легко, как в раннем детстве. Качели от «да я круче всех» до «Господи, ну почему все так сложно» терзали мою самооценку. Меня уличали в том, что я не использую богом данные мне способности даже на 30%. Бабушка стала принимать более активное и требовательное участие в моем продвижении, организовывая занятия, ища и меняя мне учителей, выколачивая у деда деньги на все это предприятие. Я плелась по учебникам Эккерсли без особенного энтузиазма и с грехом докатилась до третьего (начав со второго, потому что первый был уж слишком прост). У меня было постоянное ощущение, что никто не знает, что со мной делать, а также что все это убивает во мне любовь, счастье, радость и меня целиком. Тогда, конечно, я такими понятиями не оперировала. Я просто ленилась, тянула, тормозила, не желала учить слова, не желала вырезать карточки, не желала писать транскрипцию, как в словаре.
Если бы меня или моих родителей спросили в те годы, как сказался ранний старт на моих знаниях и моем отношении к языку, я думаю, ответ был бы полон горечи и разочарований. В любой точке школы, где ни потыкай, я думаю, никаких теплых слов от меня добиться было бы невозможно. Знания были хаотичными и вовсе не такими блестящими, как хотелось думать моим родным.
С начала 90-х в нашей семье стали бывать бесконечные американцы. Выяснилось, что у нас есть целая американская ветка дальних родственников, которые после падения железного занавеса летели в перестроечный Союз косяками, как птицы на юг. Тогда я впервые стала испытывать те ощущения, которые теперь слышу в речи столь многих моих клиентов: жар, пот, стыд, желание провалиться… Мне было 12-13-14, когда я была вынуждена обслуживать своим, мягко говоря, незрелым переводом длинные застольные беседы, прогулки по городу и так далее. Без меня все были, как без рук. Комплименты мне сыпали щедро, родители снова расцвели и стали гордиться, но ничего хорошего для меня из этого не проистекло. Фактически меня закинули без должной подготовки в ситуацию, которая была мне абсолютно не по силам. На этом этапе язык стал моей повинностью, моим неизбежным кошмаром, бесконечно висящей тяжелой обязанностью во имя семьи. Уезжая, американцы обещали писать – и писали. Высылали фото всей семьи в размере 30 человек в четырех поколениях с подробными описаниями, подарки к рождеству и рассказы о том, как они провели отпуска и каникулы. Мы с бабушкой сходили с ума, определяя, кто на ком женат и кто кого родил в этой сумасшедшей еврейско-американской общине, после чего садились писать ответ. Я очень мучилась – и особенно от того, что мои родные были в полной уверенности, что мне это должно быть просто, а я лишь ленюсь и упираюсь. Ведь они столько денег и сил вложили в мою учебу – должно же быть можно уже наконец получить свои законные дивиденды! Плюс – не могут же все эти милые любезные американцы так нагло врать в своих оценках моих детских возможностей. Мантра «Маша хорошо знает английский язык» стала стоить мне слишком дорого. Я проклинала свои знания, которых было мучительно недостаточно, но все равно больше, чем у всех остальных в семье. Эти письма были написаны кровью.
Адекватность моей самооценки была потеряна окончательно. Я совершенно не понимала, где я реально, что правильно и что неправильно, как надо что употреблять, хорошо или плохо я знаю язык. К тому моменту уже начинались экономические трудности, постоянная репетиторская поддержка стала давать перебои, школа не давала ничего. В последнем классе я, заносчивая и доведенная скукой до зубовного скрежета, попросила школьную учительницу давать мне какие-нибудь другие задания. Ответом стала пожелтевшая неадаптированная книга – видимо, единственная в ее библиотеке, – в которой я не поняла ничего. Для школьных занятий я была неприлично хороша, от по-настоящему хороших знаний безнадежно отставала, и так все 10 лет.
(Если вы думаете, что с 90-х годов что-то кардинально изменилось, то мой опыт репетиторства говорит об обратном. Постоянные двойные стандарты: один – для отчетности, другой – для хоть каких-то живых практических навыков.)
Если бы в тот период меня спросили о чем-то про английский язык и возможную карьеру в связи с ним, я бы просто удушила. Голыми руками с ободранными пальцами в дешевых подростковых колечках.
Результат был предсказуем: в 13 на меня вывалилось все наследие Ленинградского рок-клуба, в 15 я открыла для себя классическую русскую литературу, и весь английский полетел к ебене матери без единого моего сожаления. Я просто поставила на нем крест, я забыла о его существовании вне рамок жалких школьных часов. Оценки по-прежнему были хорошими (если вдруг вас все еще это интересует), о приросте знаний или практики речи идти не могло. Бабушка еще предприняла пару робких попыток поискать мне каких-то учителей, но я уже была борзая, да и учителя – тоже (жрать в 90-е было нечего, платить – тоже нечем, в учителях у меня были хамоватые длинноногие аспирантки в мини). Если коротко, то про английский все перестали нервничать – хотя бы потому, что я подавала другие, куда более жирные поводы. Меня же не волновало в принципе ничего, кроме моего морально-этического самоопределения в рамках обычного подросткового бунта. Я питалась Достоевским и БГ. Разговоры про иняз сменились разговорами про филфак.
Думаю, на вопросы про английский язык в этот период жизни я бы просто закрыла дверь перед носом у вопрошающего с улыбкой юной бестолочи, внезапно познавшей Взрослую Жизнь и настоящее Искусство. Филфак – это маргинально и духовно. Иняз – это для богатеньких хлыщей.
К тому моменту я уже года три обрывочно занималась французским и чем дальше шло дело, тем больше он мне нравится. Историю про поездку в Париж в 11 классе я рассказывала уже неоднократно и письменно и устно, так что очень коротко: мне 16, я оказываюсь в лучшем городе мира под Рождество, меня очень вкусно кормят, мне дарят подарки, меня делают счастливой ежедневно, я знакомлюсь минимум с десятком женщин, на которых я хочу быть похожа изо всех моих полудетских сил и жил, и все это происходит на французском языке. Все.
На шесть примерно лет меня вынесло почти полностью во французские воды. Английский казался чужим, забытым, отвергнутым, нелюбимым, банальным, некрасивым, изученным (глубокое заблуждение), заезженным. Отношения с ним испорчены навеки, занятий нет. На самом деле, мне больно, но я не знаю об этом: моя огромная любовь была избита, затерта, замучена непосильными задачами, глупыми притязаниями, чужими потребностями, неудачными экспериментами, тайными амбициями, непоправимыми разрывами. И вот я сижу в своей французской семье, к ним в гости приходит пара американских деловых партнеров хозяина дома, меня представляют как русскую девочку, которая хорошо говорит по-английски и немножко по-французски. В результате я молчу почти весь вечер, не вполне хорошо понимаю, о чем меня спрашивают эти люди, хихикаю с дочкой хозяев на французском и на беглом французском же спрашиваю у друга, как по-английски чертов «понедельник», а то я забыла. Мой французский объективно хуже английского при этом, честное слово. Но с ним мне легко, с ним мне «дома», мой рот сам складывает все нужные звуки быстро и ладно, а вот английский не выходит что-то совсем… У меня новая любовь. Апофеозом ситуации стал момент, когда я, сидя в Аризоне, вела дневник и писала письма на французском языке (далеко не безупречном, но мы здесь о свободе).
В этот период я сказала бы вам, что с английским покончено навсегда. На любой вопрос о раннем старте я бы просто пожала плечами. Что сказали бы мои родители, я понятия не имею – наверное, что языки просто даются мне с поразительной легкостью с самого детства.
В 19 лет я оказалась в международной фирме. В первый же день моей работы к столу моей британской коллеги подошел другой британский коллега. То, что я услышала, заставило волосы на моей голове подняться и зашевелиться. Сказать, что я не поняла, о чем они говорят, – это ничего не сказать. Я этот язык на слух не узнала в принципе. Разговаривать с ними на английском у меня не было никакой служебной необходимости: одна говорила на блестящем русском, со вторым я почти не пересекалась, но все годы, пока они работали там оба и сплетничали на своем этом невозможном, странном для моего уха английском, я втягивала голову в плечи и катапультировалась куда-то в небытие. Я вытесняла эту информацию и все связанные с ней чувства. Я просто не могла понять: как же такое в принципе возможно?! Это что же получается, я НЕ ЗНАЮ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?! То, что я всегда считала неотъемлемой и неизменной частью себя и позволяла себе отвергать столь беспечно… Дура ты, дура, детка. Это он тебя, мелкая зазнайка, отверг.
Если ребенку долго говорить, что английский язык он знает хорошо, рано или поздно он в это поверит как в принадлежащую ему константу, с которой он волен обращаться сколь угодно жестоко. Выяснилось, что я – не единственное действующее лицо в этом танце. Я получила ответ на свои действия. Теперь уже я его хотела обрести назад, хотя бы потому что ощутила внезапно горечь утраты и пустоту где-то в значимом центре моего существа, а также потому что рядом опять возникли интересные англоговорящие и завиднелась поездка в Штаты. Но не тут-то было.
Я стала разминать свои ржавые механизмы. Сначала на работе. Потом – пошире. Сознаюсь – был даже один эпизод похода на какие-то очень дурацкие курсы, а, может, и не один. Проще говоря, у меня не очень-то получалось! Я тыкалась в учебники, покупала и забрасывала, и в общем-то вертелась в том же вязком колесе, что и многие мои нынешние клиенты. И это я быстро рассказываю, а ведь это годы.
Тогда я бы просто сказала, что ранний старт был давно проеден и пропит. И возврата в счастливые отношения с языком нет. Тогда на меня впервые стала снисходить мысль, что языка-то я не знаю вовсе, если уж так-то, по-честному. Просто не знаю – и все.
В Институт иностранных языков я пошла с очень прагматическими, сухими целями. Мой ранний старт давно к тому моменту отвязался от меня, как шарик, последующие годы сумбурных усилий не имели значения – мне так казалось (на самом деле нет, иначе с чего бы меня взяли сразу на второй курс). Я просто пахала, тянула лямку, как все. В отстающих никогда не была, но и флер «английский у меня в кармане» с меня слетел, как тополиный пух. Заниматься было надо. Занималась я очень много.
После института я знала язык хорошо, но говорить, как и многие, стеснялась, да и не с кем было. Грамматика, как потом выяснилось, тоже была в серой зоне. Я спряталась в нишу узкой профессиональной специализации. Язык превратился в способ добывания денег, в тягловую лошадь, которая, увы, не может выступать на скачках. В моей работе гораздо важнее было запомнить все синонимы слова «ущерб», чем говорить свободно, вот я и не говорила. Десять лет я переводила юридические документы и в общем-то ни с кем не общалась на языке. Цапля сохла, цапля, безусловно, почти уже сдохла.
Реанимировал ее, вы удивитесь, доктор Хаус… Я просто в эту сволочь влюбилась. Посмотрела серию без перевода, поняла, что мало что поняла. К тому моменту смутное ощущение «язык я знаю плохо» уже стало более или менее ясным, я приняла это, как данность. Оправдывалась в душе узкой профессиональной областью и ее удаленностью от знания языка в целом, присматривалась к другим профессиям. Хаус же был так хорош, что сначала я прошлась по нему на русском, я потом – все то же самое по кругу, но уже на языке. Примерно в тот же период я на год ввалилась в международную тусовку контактной импровизации, вечно селила у себя дома каких-то датчан и финнов, переводила мастер-классы американцев и ирландцев (и тех же датчан и финнов), язык зашевелился, ожил. Потом была гавайская эпопея с множеством переводов письменных и устных, переписки, живого общения…
Я стала репетиторствовать. Тогда-то я и вспомнила великую фразу моих вузовских преподавателей о том, что грамматику знает только тот, кто ее преподает. В рамках подготовки к урокам я, безусловно, восстановила очень многое из теоретических знаний, а пока мои студенты бубнили свои упражнения и тексты, успела еще и попрактиковаться вместе с ними же. Включилась постоянная подпитка сериалами и книгами. Последние лет пять соотношение английских и русских произведений литературного и кинематографического жанров в моем рационе составляет примерно 10 к 1.
В 2015 родился How to Know How, который объединил весь этот длиннющий, сложный, драматичный и глубоко личный путь, заставил меня серьезно перетряхнуть все квалификации, отправиться получать пару новых (о языке, на языке). В ходе работы увидела множество страдальцев, которые не прикасались к языку в детском возрасте, но имели похожие на меня сценарии в школьные годы чудесные. Я заново оценила свои преимущества. В то же время я увидела многих людей, которые достигли очень впечатляющих успехов в тех возрастах, где я выглядела, как мне кажется, довольно бледно: например, в 19 или в 25. Очень расширила свои представления о том, какие вообще бывают сценарии и результаты и какие факторы на что влияют.
Только после создания этого проекта и года работы в нем я смогла опять с гордостью сказать, что самым лучшим и самым судьбоносным событием в моей детской жизни стало то утро, когда я, стоя во дворе дома на Гаванской улице в городе Ленинграде и ковыряя сандаликом землю, услышала, что «зонтик» по-английски будет umbrella. Сейчас я уже могу безболезненно рассуждать о том, что такое ранний старт, каким он должен быть, что он дает, когда он это может дать, а также – чего он может НЕ дать. В 37 лет во мне окончательно проросло то, что случилось 34 года назад. Не в 7, не в 10, даже не в 25. В 37 лет.
Самый главный человек, который больше всего вложил в отношения «Маша и английский язык», моя бабушка, этого проекта уже не увидела. Я не знаю, что бы она сказала мне сейчас. А, нет, вру. Знаю.
Так вот, дорогие мамы, бабушки и тети, которые выгрузили на своих детей три тонны нервных чаяний и желают видеть результаты, прогресс, динамику, подтверждение своей родительской компетенции, подтверждение своих выборов, оправдание материальных и трудовых затрат, что я вам скажу.
Take your stupid questions and shove ‘em where the stars don’t shine.
Поймите, что своими ранними занятиями – хоть шахматами, хоть гимнастикой, хоть английским языком, – вы влияете на структуры и судьбы, которые вы не в силах ни понять, ни объять, ни подчинить. Вы можете только делать то, что решили, но забудьте выкапывать эту косточку из земли каждый божий день, как тот Карлсон.
Всего три положения важно зарубить себе на носу:
Вы не всегда компетентны увидеть, распознать, оценить и спрогнозировать результат своих действий, и он может абсолютно не соответствовать вашим ожиданиям.
Вы не можете его удержать или направить только и исключительно в сторону «плюс», он переменный и будет переменным до тех пор, пока ваш ребенок не возьмет свою жизнь в свои руки. Он и тогда будет переменным, но тогда это уже не ваша ответственность.
Вы не знаете, сколько его ждать.
Критерий, я повторю уже в который раз, один: нравятся ли малышу языковые занятия, которые он посещает. Нравится ли ему преподаватель, место, где это происходит, нравится ли вам то лицо, с которым он выходит с урока. Это все. Ваш главный и иногда единственный ориентир.
При переходе из дошкольного возраста в школьный будьте готовы, что часть ваших усилий будет сведена на нет или поменяет знак с положительного на отрицательный. Последыши детских утренников не прокормят вашего отпрыска и ваши амбиции до самого института, придется что-то делать. Школа убьет многое. Жить в двойном послании: «школьный английский ужасный, но по нему нужно иметь хорошие оценки» ребенку будет очень и очень тяжело, и это скажется на всем: на его отношении к предмету, к вам и к его собственным детским опытам. Это самая тяжелая и опасная зона роста. Впрочем, если особенно не наседать с требованием результатов, можно избежать отвращения и даже использовать это время для набора какой-никакой теоретической базы. Говорить не будет – ну так хоть тесты сдаст. Не взлетим, как грится, дальше сами знаете.
Реальность, в которой ему потребуется язык во взрослом возрасте, настолько непрогнозируема в его 3-4 года, что глупо тратить туда хоть грамм вашей энергии. Пойдите лучше обнимите его лишний раз перед сном.
Ваши задачи на раннем старте – дать почувствовать удовольствие и любовь, открыть возможность говорения из невербальной точки без перевода (поэтому все вопросы с формулировкой «как сказать по-английски то-то и то-то», «как переводится это слово» и т.д. нехороши). На школьном этапе – не убить, по-возможности, эти светлые чувства и навыки, оградить от школьного влияния, выстроить альтернативные занятия и пожертвовать оценками (а можно и школой, если жизнь позволяет). На этапе выхода во взрослость – помочь сфокусировать изучение языка вокруг реальных жизненных целей.
Дорогая бабушка, спасибо тебе. Местами мы были ужасными – ты и я – но мы обе знаем, что мы обе сделали. Ты – тогда, я – сейчас. Без первого не было бы второго, без второго первое было бы совершенно бессмысленным. Таким оно и казалось тебе, видимо, долгие-долгие-долгие годы.
А вот нет.