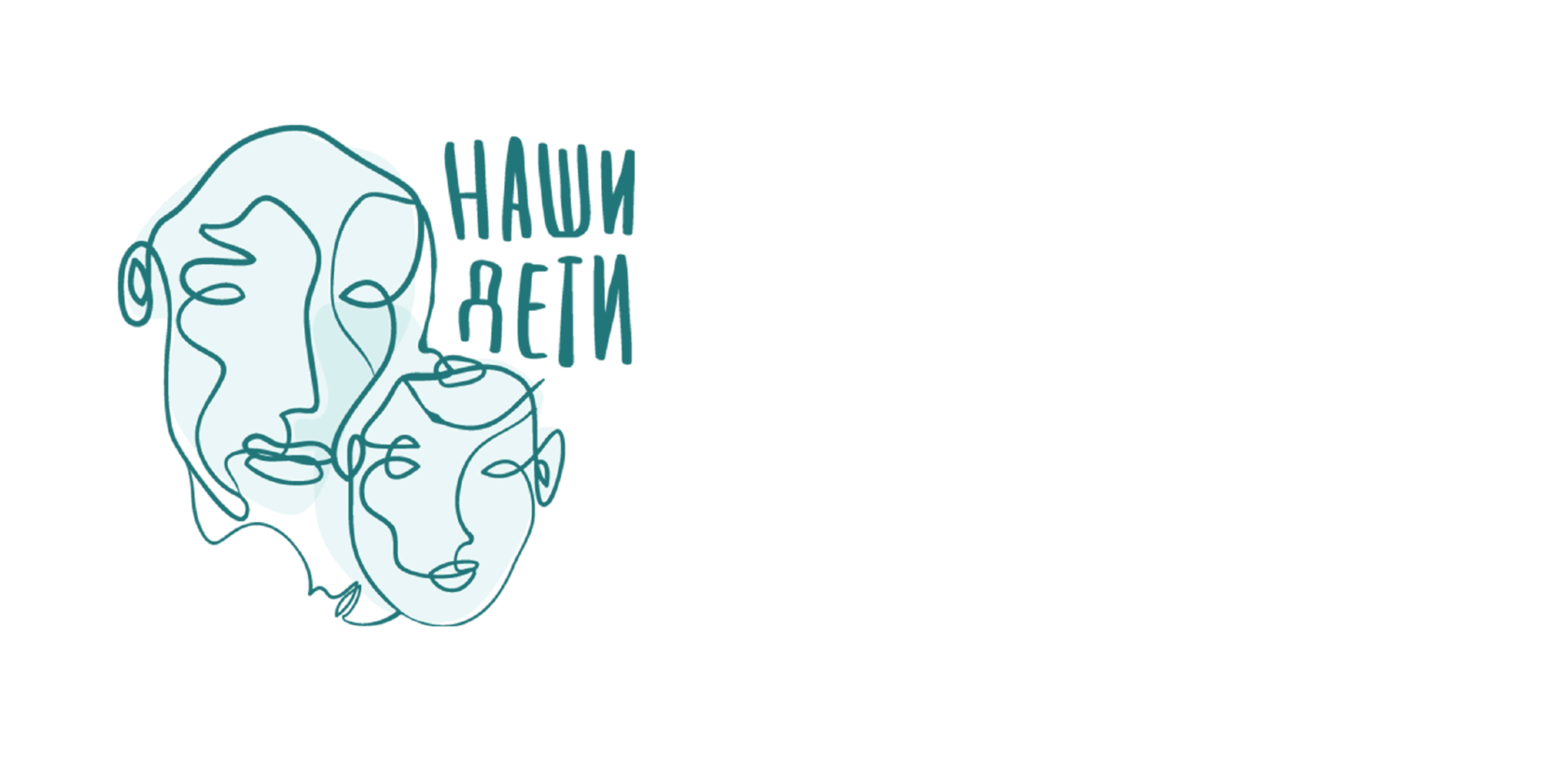Автор книги О том, что есть в Греции
Сначала появляется память, а потом — человек. Если у тебя нет воспоминаний, ты не станешь самим собой, не успеешь родиться.
Улица Будапештская дом восемь, квартира двести пять. Мой первый адрес. Какой бывший ребенок не помнит свой первый адрес? Есть ли вообще такие? Знакомая старуха-понтийка, говорившая по-русски лет до шести, основательно разрушенная Альцгеймером, не узнававшая детей, не помнящая внуков, не понявшая смерти мужа, повторяла как мантру одну и ту же фразу: «Сочи. Мало-Приреченская, дом 43». Ее первый адрес.
В моих самых ранних воспоминаниях нет людей. Ни папы, ни мамы, ни бабушки с дедушкой, а ведь мы жили вместе. Важны были не люди, а их качества. Например, теплота маминых рук. Папино ускорение — он никогда не стоял на месте. Ребенок, как рептилия, — видит тепло и движение. Или это рептилии застряли на стадии детского деления мира на теплое и холодное? На неподвижное и бегущее?
Игрушки запомнились подробнее родителей. Главный фаворит— «дусь кем» (страус эму в приблизительной детской артикуляции). Пластмассово-синий советский страус с белыми ногами и длинной шеей, которые потом раздельно валялись на даче — рука не поднималась выбросить даже часть любимого друга. И еще кукла в красном платье в белый горох, платиновая блондинка с длинными волосами и шикарным по советским временам именем Кристина.
Первое, что я помню — утренний, жестокий, как все молодое, луч солнца. Он оглушил меня, пролившись сквозь деревянное решетье кроватки. Я болела ветрянкой, спросонья задела ветряночный прыщ, разревелась, прибежала мама. И вот — анальгин, работающий только в детстве: она меня пожалела, обняла — сразу перестало болеть. К сожалению, у этого эффективного обезболивающего срок годности обидно краткосрочен: он ограничен даже не детством, а только младенчеством.
Постепенно картина мира усложнялась. Распространилась местами, цветами и запахом: добавились голубые пролеты парадной, пахнущие хлоркой и солнечным светом. Стеклянная входная дверь вела во внешний мир. Он начинался со скамейки, окропленной дырявой тенью чахлой купчинской сирени. Там заседали соседи — толстая Юля и супруги-пьяницы Снежки. По неписаному, но непреложному кодексу советского общежития требовалось здороваться с ними, сочиняя на ходу любую, пусть недостоверную улыбку. И — бегом на свободу. На детскую площадку. К сине-красной проволочной ракете, в открытый космос.
Мы жили на седьмом этаже, поэтому площадок в моих воспоминаниях две: одна размером с ноготок, какой я ее видела из окна. Вторая, с высоты моего роста бескрайняя, как блаженные поля шанз-элизе, усыпанная блестящим розовато-желтым песком, окруженная кустами шиповника, непролазными, колючими, точно заросли из сказки про спящую красавицу. В июне они покрывались северными розами с прозрачными жидко-розовыми лепестками, преодолевавшими недлинную реинкарнацию в крутые оранжевые ягоды: снаружи гладкие, с пушистыми колючками внутри. Ягоды были жесткие, еле сладкие, мы клали их в рот без аппетита, с любопытством и ожиданием, превосходящими последующее впечатление, — такое бывает бывает у неофитов с причастием.
Мирная размазанная сепия детской поликлиники, маленький, серый в крапинку домик — лаборатория, где «сдают на анализ», будка телефона-автомата — границы ойкумены. Двушки не было, да и звонить-то — кому? А звонить почему-то хотелось. Я тянулась к тяжелой холодной трубке, бесплатно набирала «ноль восемь», точное время. Ледяной женский голос укоризненно выговаривал: «Московское время. Шестнадцать часов ( и — незабвенная, хрустальная, непорожняя, как гроб мертвой царевны, пауза!) семь минут».
Окна комнаты выходили на восток. Каждое утро меня будил вышеупомянутый солнечный луч,— резкий и горячий, как пощечина. Добросовестно залитая светом распашонка выглядела просторной. Приземистый польский сервант танцевал глянцевыми ножками замысловатую куранту в столбах утренней золотой пыли. Бабушка варила на кухне кашу. Блаженную буколику разбавляли приключения: например, приходила утренне-свежеподдатая мадам Снежок. Алкоголик пьет один, это факт, но быть один не может никто, даже алкоголик.
В какой-то раз она забыла ключ от дома, Снежок был на работе. Попросилась перелезть с нашего балкона на свой. Проще было уступить — не каждый же день вызывать милицию, а впрочем, все обошлось: Снежок,бестелесная, как аскет, гибкая, как гуттаперчевый мальчик, перебралась в свою грустную гавань, заставленную водочными бутылками.
Большой мир традиционно разворачивался направо и налево, как у русского богатыря, для которого не существует движения прямо. Налево — пешком к универсаму. Светлые верхние полки были заставлены бесконечными макаронами «ракушки», нижние — влажными бело-красно-синими треугольниками с молоком. Картошка, вся в испарине, устало валилась из черного подвального аида. Ванильно-молочный коктейль на выходе в кафетерии — награда за терпение.
Направо ездил троллейбус, музыкальный и подвывающий, крупный расстроенный струнный инструмент. Однажды папа решил повезти меня смотреть стерео-кино. Подъехал троллейбус, я скользнула внутрь, машина тронулась, а папа остался на остановке. Он-то ждал 74-й автобус — прямой телепорт до Невского.
Папа был быстр и импульсивен, он никак не ожидал, что кто-то в этом мире может оказаться быстрее и импульсивнее него. Пока он сходил с ума, не зная, что делать, я спокойно ехала, трясясь и подпрыгивая на задней площадке.
Папа еле дождался следующего троллейбуса, выпрыгивал и вскакивал назад на каждой остановке, хватаясь за сердце, надеясь, что у меня хватит ума выйти и справедливо не доверяя надежде. Встретились мы у метро «Электросила», где я наконец потеряла к поездке интерес. И хоть в кино мы тогда так и не попали, но — думаю я сейчас — неизвестно, остались бы воспоминания о нем такими же стерео-глубокими, как о первом самостоятельном путешествии.
Чтобы вызвать меня с прогулки, домашние кричали в форточку: «Катя, домой!»
Я поднималась пешком, потому что для лифта была слишком легка. Он не распознавал во мне человека: закрывал двери и гасил свет. Приходилось смиренно ждать в электрической темноте, пока меня кто-то не вызовет.
Ходить пешком было весело: спелые пчелиные соты почтовых ящиков выдавали вкусно пахнущую типографским дымком нечитанную газету, чье-то письмо, измаранное штемпелями, или блестящий журнал с тонкими влажными страницами.
Время измеряется временем. С годами мой дом осел, устал, сгорбился. Площадка уменьшилась до игрушечного размера. Когда я пришла туда взрослой,то почувствовала себя Гулливером. Даже кусты шиповника казались не живыми, а пластмассовыми, и я уже не замечала, как они шевелятся от ветра.
Стеклянную дверь еще в девяностые забили фанерой, в нулевые поменяли на железную с кодовым замком. Снежки умерли, толстая Юля в перестройку похудела, и очень этим гордилась; скамейка опустела навсегда. Остальные соседи разъехались, никого знакомого не осталось на той планете.
Человек прочнее. Он оседает в вещах, пейзажах, текстах, музыке. И в адресах. Потом с помощью памяти воспроизводит себя из этого разнородного добра, как феникс из пепла. Душа состоит из того, что любишь. И, кстати, потерять ее нельзя: даже если ты ничего не помнишь, что-то, что сильнее памяти, приведет тебя на Будапештскую, дом восемь, Мало-Приреченскую, сорок три. Никто не заблудится, понимаете? Потому что свой адрес есть у каждого.